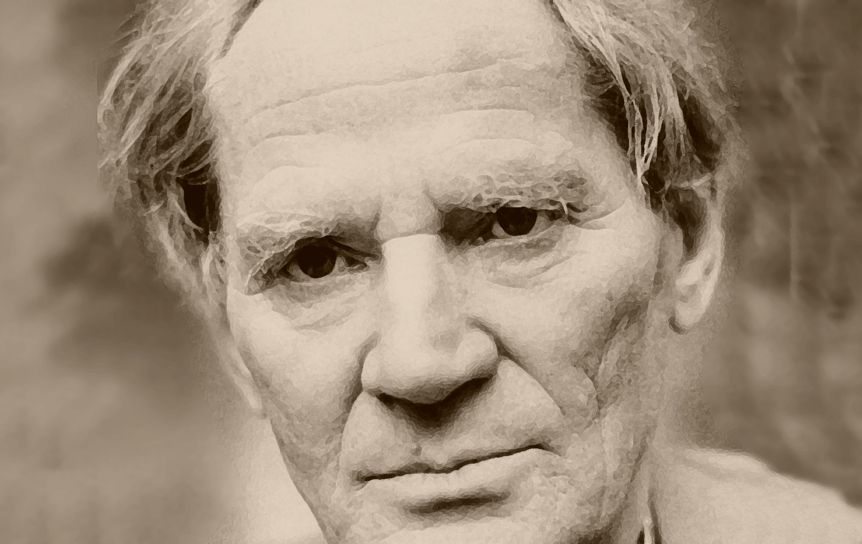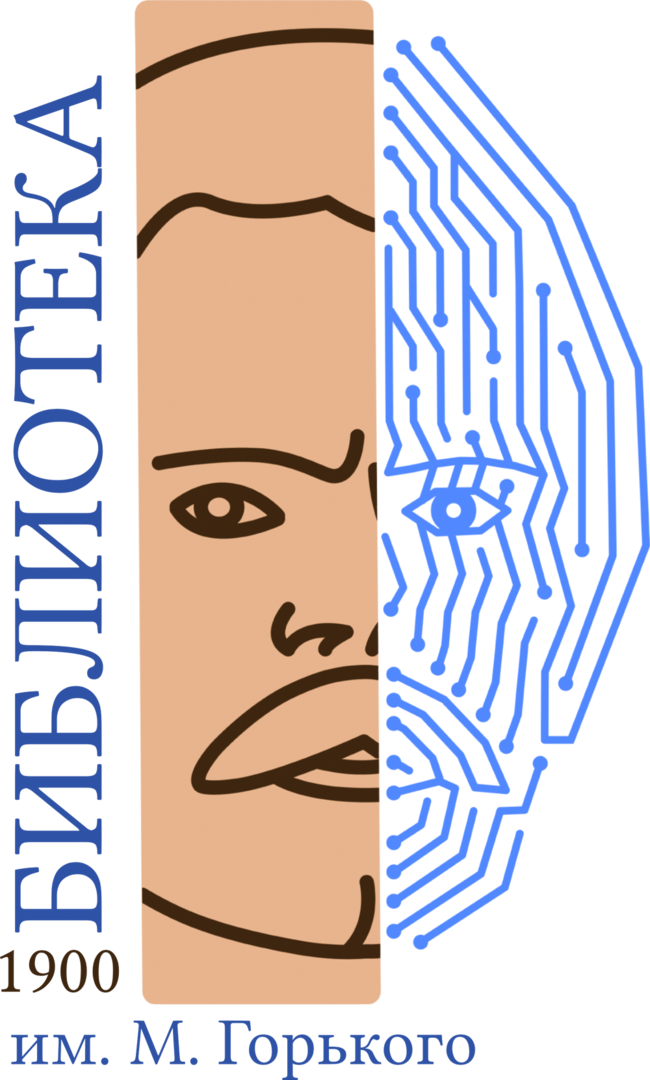Горько восприняв развал союзного государства, но получивший возможность говорить без оглядки, Чичибанин расставил все точки на «i», касаемо своих мировосприятия, политических взглядов и творческого кредо
обида тёмных лет!
Какая в мире тишина!
Какой на свете свет!
Сон мира сладок и глубок,
с лицом, склонённым в снег,
и тот, кто в мире одинок,
в сей миг блаженней всех.
О, стыдно в эти дни роптать,
отчаиваться, клясть,
когда почиет благодать
на чаявших упасть!
В морозной сини белый дым,
деревья и дома, –
благословением святым
прощает нас зима.
За все зловещие века,
за всю беду и грусть
младенческие облака
сошли с небес на Русь.
В них радость – тернии купать
рождественской звезде.
И я люблю её опять,
как в детстве и в беде.
Земля простила всех иуд,
и пир любви не скуп,
и в небе ангелы поют,
не разжимая губ.
Их свечи блёстками парят,
и я мою зажгу,
чтоб бедный Галич был бы рад
упавшему снежку.
О, сколько в мире мертвецов,
а снег живее нас.
А всё ж и нам, в конце концов,
пробьёт последний час.
Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те – брат мне и сестра.
И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебреет в слове звук,
преображённый в свет.
Приснись вам, люди, снег во сне,
и я вам жизнь отдам –
глубинной вашей белизне,
сияющим снегам».
(Борис Чичибабин, «Сияние снегов»)
«Я как-то так "странно устроен", что "частной" жизни с бытовыми подробностями для меня просто не существует. Поэтому я никогда не смог бы написать хорошей прозы, даже мемуарной: ведь вся проза держится исключительно на этих подробностях. (При Сталине я сидел в лагере ни за что – "за антисоветскую агитацию", но что такое означала эта "агитация" по тем временам, за которую я получил смехотворный срок – пять лет, не знает никто. Лагерь не оставил в моей жизни никаких следов, я ничего не запомнил из тех страшных пяти лет, и, когда я попадаю в компанию бывших лагерников, я чувствую себя самозванцем. Я и там жил своей внутренней, духовной жизнью, – писал Борис Чичибабин в «Литературной газете» в 1991 году. – Да что лагерь? Будучи отлучён от литературной жизни, лишенный возможности публиковать свои стихи, для того чтобы заработать на кусок хлеба, я 25 лет проработал чем-то вроде экономиста-плановика (числился по штатному расписанию "мастером") в трамвайно-троллейбусном управлении. К своей работе относился добросовестно, и, надеюсь, сослуживцы поминают меня добром, но и эта работа никакого отношения к моей подлинной жизни не имела. Я отрабатывал свои положенные 8 часов – и забывал всё: службу, служебные отношения, выговоры начальства – и возвращался к настоящей жизни: к книгам, стихам, к раздумьям о времени и мире. Не знаю, живут ли так все поэты, но я жил так и иначе жить не могу. То, о чём я написал, – это и есть моя жизнь, и разве сейчас кто-нибудь в стране живёт другим, тем более человек, имеющий какое-то отношение к русской литературе?»
В этом году, 9 января, исполняется 100 лет со дня рождения советского русского поэта Бориса Алексеевича Полушина, вошедшего в историю как Борис Чичибабин.
«Свободный человек в свободном обществе не может не уважать культуру, облегчающую и одухотворяющую его труд, быт, досуг, повседневную жизнь, как не может не обладать чувством собственного достоинства и личной ответственности. …Свобода без чувства ответственности и без уважения к культуре есть абсурд и дикость, производные от "бессмысленного и беспощадного" рабского бунта, то же вывернутое рабство, нечто невообразимое и страшное».
В 1990-е годы, горько восприняв развал союзного государства, но получивший возможность говорить без оглядки, Чичибанин как бы расставил все точки на «i», касаемо своих мировосприятия, политических взглядов и творческого кредо.
«Но и без культуры какая ж свобода? А мы ужасно некультурны. Посмотрите, послушайте, как мы спорим, как ведём себя на митингах наших, на диспутах, в журнальной грызне, на съездах наших, хотя бы и писательских. И всё норовим историю нашу переписывать, какие-то страницы её зачеркивать, как будто их и в помине не было. Да она, история русская, вся в наших костях да крови, никуда от неё не денешься: ни от царей, ни от бунтарей, ни от Ивана Грозного, ни от Стеньки Разина, ни от Столыпина – реформатора и вешателя. …вот сейчас мы с обоих краев в один голос от Октябрьской революции отрекаемся. Дескать, революция эта в историю нашу как бы по ошибке попала: историческое недоразумение и преступление, да и не народная революция, а переворот, сотворённый кучкой злоумышленников, преимущественно нерусского происхождения. Да чушь всё это! Не могла кучка злоумышленников всю Россию всколыхнуть до самых глухих и отдалённых окраин, до самого Тихого океана. Значит, накапливались обиды, чтобы прорваться разом в великую и страшную четырехлетнюю братоубийственную войну. Тому и свидетель есть непогрешимый и неподкупный, которому невозможно не верить, – великая русская литература. Или уже не слышим Некрасова? Не слышим Щедрина? Не слышим великого Толстого, кого весь мир слышал? А как же Достоевский, которого сейчас на каждом шагу поминают? Да вспомните, перечитайте в "Карамазовых" разговор в трактире Ивана с Алёшей, историю про то, как крепостного ребёнка помещик собаками затравил. Перечитайте Александра Блока, самого чуткого, самого искреннего, самого прозорливого русского поэта XX века, стихи его из третьего тома о "Страшном мире" и все его статьи того времени. Или и Блоку не верите? Перечитайте Бунина, ненавидящего революцию, – "Деревню"… Историю нельзя переделывать, от истории нельзя отказываться. Да и незачем. За нашей революцией стоят благословляющие и вдохновляющие тени прекраснейших и благороднейших русских людей – от Радищева и декабристов до лейтенанта Шмидта. Она была, её не перечеркнёшь. Мы приняли её наследство, страшное, тёмное, безобразное, но нам не избавиться от него. Это не только недостойно, безответственно, безнравственно, но, в конце концов, и безграмотно, противоестественно, просто невозможно...»
…Борис Полушин родился в семье военного, на свет появился в Кременчуге. До 1930 года семья жила в Зиновьевске, потом в посёлке Рогань под Харьковом, где Борис пошёл в школу. В 1935 году Полушины переехали в Чугуев, Борис учился в Чугуевской 1-й школе с 5-го по 10-й класс. Здесь он уже постоянно посещал литературный кружок, публиковал свои стихи в школьной и даже городской газете под псевдонимом Борис-Рифмач. По окончании школы Борис поступил на исторический факультет Харьковского университета. В ноябре 1942 года студента Полушин призвали в армию, служил бойцом 35-го запасного стрелкового полка на территории Грузинской ССР. В начале 1943 года поступил в школу авиаспециалистов в городе Гомбори, после чего до победного мая 1945 года Борис служил механиком по авиаприборам в разных частях Закавказского военного округа. Несколько месяцев после Победы занимал такую же должность в Чугуевском авиаучилище, затем был демобилизован по болезни.
К этому времени Борис, избравший в качестве псевдонима, вероятно, фамилию двоюродного деда по материнской линии – крупного учёного-химика, в конце 1930-х годов ставшего «невозвращенцем» и лишившегося советского гражданства, – был автором нескольких стихотворных «сборников»: самодельных тетрадок-книжечек. Читателями этих стихов были только близкие друзья, но и в их числе нашёлся тот, кто узрел в строках поэта крамолу и донес: в июне 1946 года Чичибабин был арестован и осуждён за «антисоветскую агитацию».
Во время следствия в Бутырской тюрьме Чичибабин написал ставшие его визитной карточкой стихотворения «Красные помидоры» и «Махорка» – они прославили автора, сделали его тюремной «иконой стиля».
После почти двухлетнего следствия Чичибабина направили для отбывания пятилетнего срока в Вятлаг Кировской области.
В Харьков Чичибабин вернулся летом 1951 года. Долгое время был разнорабочим, около года проработал в Харьковском театре русской драмы подсобным рабочим сцены, потом окончил бухгалтерские курсы и начал работать бухгалтером домоуправления. Здесь познакомился с паспортисткой Матильдой Фёдоровной Якубовской, которая стала его женой.
С 1956 по 1962 год Чичибабин продолжал работать бухгалтером в грузовом автотаксомоторном парке Харькова и «обрастал» литературными знакомствами. В частности, подружился с Борисом Слуцким. В 1958 году появилась первая публикация в журнале «Знамя» – под фамилией Полушин. Наступило время так называемых «Чичибабинских сред» – в маленькой чердачной комнатушке Чичибабина собирались любители поэзии.
В начале 1960-х годов поэт долгое время жил в Москве на квартире Юлия Даниэля и Ларисы Богораз, выступал в литературном объединении «Магистраль». В 1962 году его стихи публиковались в журнале «Новый мир», харьковских и киевских изданиях. Среди знакомых Чичибабина этого периода были Самуил Маршак, Илья Эренбург, Виктор Шкловский. Основные темы поэзии Чичибабина тех лет – гражданская лирика, любовь к России и русскому языку, преклонение перед Пушкиным и Толстым, пейзажная лирика, любование «малой родиной».
В 1963 году вышли из печати два первых сборника стихов Чичибабина. В Москве был издан сборник «Молодость», в Харькове – «Мороз и солнце».
В январе 1964 года Чичибабину было поручено руководство литературной студией при ДК работников связи. Работа чичибабинской студии стала ярким эпизодом в культурной жизни Харькова. Однако позже поэта отстранили от руководства студией, а саму её распустили. По официальной версии, соответствующее указание поступило из КГБ – чекистам не понравились занятия, посвящённые Цветаевой и Пастернаку. Но в этом же году поэта приняли в СП СССР.
В 1965 году в Харькове вышел сборник «Гармония», сильно расстроивший автора – цензура превратила полноценную книгу в жалкий обрубок. В жизни Чичибабина началось смутное время. Как это обычно бывает, «векторы сошлись» – творческие проблемы совпали с семейными неурядицами.
Осенью того же года Чичибабин встретил влюбленную в поэзию почитательницу его таланта – Лилию Карась, и через некоторое время соединил с ней свою судьбу. Соответственно, депрессия уступила место творческому подъёму, в начале 1968 года в Харькове был опубликован сборник Чичибабина «Плывёт Аврора», однако «оттепель» уже закончилась, и поэт постепенно перешёл из разряда «официальных» в «самиздатчики», что вызвало новые «разборки» с КГБ. В 1973 году его исключили из СП. В результате, Чичибабин «замолчал» вплоть до «перестроечных» лет.
В конце 1980-х и в 1990-е годы поэзия Чичибабина не просто вернулась к читателю – её подняли за знамя, на поэта посыпались премии, ещё в1987 году Бориса Алексеевича восстановили в Союзе писателей. Он много ездил и выступал.
«Поначалу все публикации и выступления происходили в России, в Москве. Украины, Киева это словно не касалось, словно позабыли тут такого поэта. И когда по поводу Чичибабина в Киев позвонил Евтушенко, литературные чиновники сделали вид, что с трудом вспомнили. Надо сказать, что ещё существовал обком, где растущая слава Бориса воспринималась так: "на нас идёт атака Чичибабиным". Но в харьковскую писательскую организацию пришли телеграммы от Булата Окуджавы, Григория Поженяна, редколлегии "Нового мира" во главе с Залыгиным, смысл которых – необходимость восстановления Чичибабина в СП. Это были более требования, чем просьбы. Булат Шалвович, например, подчеркнул, что для исключавших Бориса восстановить его – "большая честь". Возвращение в Союз писателей состоялось 30 октября 1987 года, процедура осуществлялась тем же составом, что и изгнание 14 лет назад», – вспоминает Лилия Карась-Чичибабина.
В 1990 году за изданную за свой счёт книгу «Колокол» Чичибабин был удостоен Государственной премии СССР.
Он же не смог смириться с распадом Советского Союза, отозвавшись на него «Плачем по утраченной родине»:
«…И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.
При нас космический костёр
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет».
Скончался Борис Чичибабин 15 декабря 1994 года. Похоронен в Харькове.
«Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.
Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил –
дураком-провинциалом.
Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже, –
водку дул заради братства,
книгам радовался больше.
Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас, –
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.
Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.
Убеждённый, что в отчизне
все напасти от неё же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ёжил.
Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.
Сотня строчек обветшалых –
разве дело, разве радость?
Бог назначил, я вещал их, –
дальше сами разбирайтесь.
Не о том, что за стеною,
я писал, от горя горбясь,
и горел передо мною
обреченный Лилин образ…
Вас, избравших мерой сумрак,
вас, обретших душу в деле,
я люблю вас, неразумных,
но не так, как вы хотели.
В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.
Поменяться сердцем не с кем,
приотверзлась преисподня, –
все вы с Блоком, с Достоевским, –
я уйду от вас сегодня.
А когда настанет завтра,
прозвенит ли моё слово
в светлом царстве
Александра Пушкина
и Льва Толстого?»
(Борис Чичибабин, «Сколько вы меня терпели»)
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького