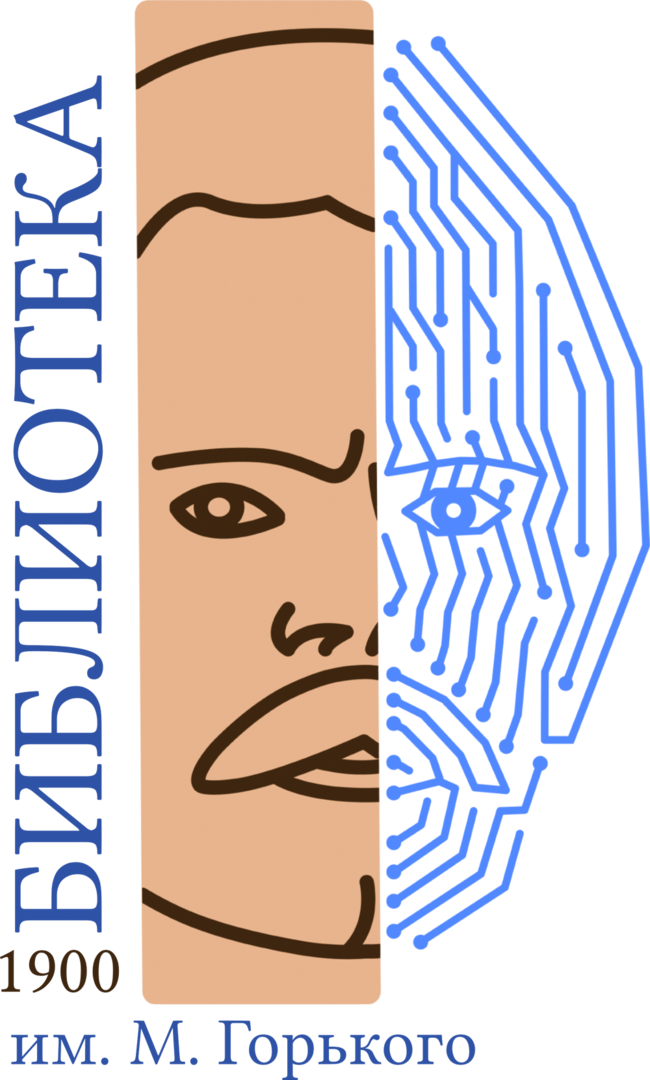«…Каждое слово это какое-то милое окошечко в манящую таинственную бесконечность духа человеческого».
«Черные люди и стрельцы, раскидав кирпич в Пречистенных воротах, вырубили в них топорами проход – ключи от крепостных ворот хранились по обычаю у воеводы, – и казаки входили в город чрез эту калитку, а с другой стороны крепости чрез Житный двор. Часть их бросилась к собору и, проткнув пикой Фрола, стала палить в церковь. Одна пуля угодила в переносье полуторагодовалой девочки, которую мать держала на руках, а другая потрафила в икону. Раздались крики ужаса и плач. Выломав решетку, казаки бросились на беззащитную толпу. Они вязали всех подряд – надобности в этом никакой не было, но надо было показать себе и людям свое усердие, – и, выведя в храма, сажали в ряд под стенами колокольни в ожидании суда атамана. В другом месте казаки ожесточенно атаковали небольшой отряд стрельцов под командой капитана Видероса, того самого аккуратного немчина, который некогда являлся в Царицыне послом воеводы астраханского к Степану. Последним выстрелом капитан Видерос убил того долговязого, белокурого поляка, который бежал от польских панов, чтобы наткнуться на Дону на глухую вражду Сережки Кривого. Поляк с разбитым черепом ткнулся носом в горячую пыль, а стрельцы вдруг бросились на своего командира, изрубили его в куски и вместе с разиновцами бросились на грабеж. Особенно жаркая схватка происходила около Пыточной башни, в которой заперлись черкесы князя Каспулата Муцаловича. У них давно уже вышел весь свинец, и они заряжали ружья деньгами и палили. Но озлобление толпы – во главе ее был рябой Чикмаз, исступленный и дикий, и палач Ларка, старавшийся загладить свои грехи перед ворами, которых он переказнил немало, – слепило ее, и она, как бешеная, лезла к башне. Наконец, выбившись из сил, с кинжалами и саблями в руках черкесы выбежали из башни и все погибли… А на площади, перед Приказной Избой, полыхал огромный огонь: то горели всякие дела, вытащенные из приказов. И вкруг огня радостно бесновалась толпа: теперь конец проклятой бумаге, конец ненавистному гнету приказных кровопийц!..
Около восьми утра к соборной церкви подъехал атаман со своими есаулами. Все они были уже пьяны. Заметив раненого воеводу, который лежал, закрыв глаза, под раскатом на окровавленном ковре, Степан приказал ему встать и следовать за ним на раскат. Воевода едва передвигал ноги, и по грязной каменной лестнице за ним тянулся мелкими красными бусинками кровавый след. Степан поддерживал его под руку. И все снизу, задрав головы, смотрели, что будет дальше.
Они остановились под колоколами, в пролете, откуда открывался такой широкий вид на рукава Волги и степь.
– Ну, старый хрыч, что скажешь теперь?.. – сказал Степан. – Присягай казачеству, тогда оставлю в живых…
Теряя последние силы, князь отрицательно покачал своей ушастой головой. Степан вспыхнул и толкнул его с колокольни. Вся площадь ахнула в ужасе: грузный воевода мелькнул в воздухе и разбился о камни.
Степан спустился вниз. Его ноздри раздувались и глаза горели мрачным огнем. Вспыхнуло в душе видение полей далекой Польши и эта виселица, на которой качался, неподвижный и длинный, его брат. Вспомнилась вся неправда, что видел он по Руси. Он мрачно оглядел своих пленников.
– Кончай всех!.. – крикнул он пьяно.
Казаки и работные люди бросились на связанных, и среди криков ужаса, ругани бесстыдной, воплей заработали сабли, бердыши и копья. Хрустели кости, текла кровь по жарким камням, глаза выходили из орбит…
По всему городу шел грабеж. Грабили дворы зажиточных людей, двор воеводы, церкви и торговые дворы: русский, персидский, индейский, бухарский. Хозяева-иноземцы и их приказчики были почти все перебиты. И в то время как одни телеги с красными от крови колесами свозили награбленное добро в Ямгурчеев городок, в татарскую слободу, для дувана, другие телеги, навстречу, свозили тела убитых в Троицкий монастырь, где уже рылась одна огромная братская могила.
– Да это воевода… – смутился было вощик, сваливая у ямы свою страшную очередную кладь.
– Дык што ж, что воевода?.. – осклабился рябой Чикмаз, проявлявший всю эту ночь и весь день прямо какую-то дьявольскую энергию. – У нас, брат, все одинаковые. Только вот разуть его милость надо – гожи сапожки-то, сафьяновые… А кафтан очень уж в крови, не гожается…
И тучный воевода, князь Иван Семенович Прозоровский, без сапог, нескладно размахивая руками и ногами, грузно свалился в яму, на кучу перепутавшихся окровавленных тел, над которыми оживленно кружились уже металлически-синие мухи.
Степан пировал. То и дело голытьба приводила к нему изловленных врагов народных, и он только рукой отмахивался: на тот свет!.. Привели и двух немчинов: Бутлера, командира «Орла», и немца-хирурга.
– А ты что, сражался против казаков? – строго спросил он Бутлера.
У того просто язык отнялся: он смотрел в упор на дикое, пьяное лицо атамана и не мог выговорить ни слова.
– Осатанел? – засмеялся Степан громко, довольный, что он производит такое впечатление. – Подайте ему добрый стакан водки, – авось очухается… А ты, живодер, – обратился он к хирургу, – иди лечи моих раненых… И ты иди на «Орел»… Немцы, они дошлые, пригодятся… – пояснил он своим собутыльникам. – Ну, не отсвечивайте…».
(Иван Наживин, «Степан Разин»)
«На одном эмигрантском собрании в Льеже кто-то из присутствовавших, когда речь зашла о Наживине, воскликнул:
– Да черт его знает, как к нему относиться: не то он монархист, не то большевик!..
И вдруг встает молодой человек и говорит:
– Господа, Наживин мне ни брат, ни сват. Я даже не знаю его лично. Но я читаю его. Он ни монархист, ни большевик, он просто Наживин, человек независимый…».
(Доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии образования Виктор Хелемендик, из предисловия к книге Ивана Наживина «Душа Толстого» («Неопалимая купина. Душа Толстого» )).
В 2024 году, 6 сентября, исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Федоровича Наживина.
Еще до Октябрьской революции ставший знаменитым писатель Иван Наживин, - до 1917 года вышли 1 и 4—8 тома его собрания сочинений, - имел все шансы войти в историю советской литературы как бытописатель русской деревни. К тому же, эти его шансы значительно повышались благодарю тому, что Иван Федорович долгие годы состоял в обширной переписке с Львом Толстым, неоднократно встречался лично и после смерти великого писателя выпустил несколько книг о своем общении с Львом Николаевичем. «Лет пятнадцать моей жизни прошли под знаком Толстого. Почти десять лет я был лично близок к нему, видел его жизнь, видел его душу, то светлую, то бурно мятущуюся и всегда взволнованную жизнью», - писал Наживин в предисловии к «Неопалимой купине». А Лев Николаевич в Советском государстве «котировался» ох как высоко! Могло «дать бонусы» Наживину и его негативное отношение к Нобелевскому лауреату Ивану Бунину: в письме Марку Алданову он, например, отозвался об общепринятых мэтрах (речь шла о проекте двухтомного сочинения о современных Ивану Федоровичу русских писателях) так: «...Статья о Бунине нужна, потому что этот коронованный уездный моншер водит за нос тысячи дураков. Злейший черносотенник и тупица, он окончательно разложился. Куприн смердит не меньше: его "Юнкера" ужасны. Шмелев уцелел как художник больше, но и это мракобес, годный только для молодцов-корниловцев. Осоргин – Нарцисс, который никак собой достаточно не налюбуется. Молодежь – все эти Берберовы, а в особенности Газдановы, Набоковы и пр. – вырожденцы, выкидыши. Мережковский полоумный схоласт. Единственный человек, о котором стоило бы поговорить, это Вы…». В Советской России, понятное дело, к писателю-эмигранту Марку Алданову относились, скажем мягко, без излишнего трепета, но характеристика Наживина в отношении Бунина и Шмелева, смеем предположить, пришлась бы советским литфункционерам по душе.
Но в историю советской литературы Наживин практически не вошел, хотя и удостоился упоминания (в том числе, и как «сын кулака». Его отец происходил из государственных крестьян и успешно занимался лесным промыслом, мать была родом из крепостных) в «Литературной энциклопедии» 1934 года. Иван Наживин не мог стать советским литературным «бонзей» по элементарной причине: он «в штыки» воспринял Октябрьскую революцию, и с началом Гражданской войны примкнул к Добровольческой армии. Хотя никаким гонениям ни он, ни его родные, вроде, не подвергались – Совнарком признал его писательские заслуги и защитил от ретивых экспроприаторов имущество. Но против души Наживин идти не мог. Как и И.Бунин, Е.Чириков, С.Кречетов и многие другие И. Наживин принимал участие в деятельности «белогвардейского» отдела агитации и пропаганды при Особом совещании (ОСВАГ). В 1920 году писатель вместе с семьей перебрался из Новороссийска в Болгарию, затем проживал в Австрии, сербском Нови Саде (Новый Сад. С 1918 года Нови-Сад вошёл в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (в дальнейшем Югославия)), Германии и, с 1924-го до конца жизни, в Бельгии.
Однако, для ясности: Иван Наживин вошел в историю литературы. Не советской, не эмигрантской. Просто литературы. И, к слову, в РСФСР его, уехавшего, не просто продолжали читать. Его обсуждали и рецензировали. Но на родине не издавали, хотя он активно продолжал писать, на русском, конечно языке, переключившись, в основном, на исторические романы, выходившие в издательствах Риги, Харбина, Мюнхена, Вены, Берлина, Парижа, Брюсселя, Нови Сада. И когда, разочаровавшийся в эмигрантском движении, обвинявший его лидеров в предательстве Иван Наживин дважды обращался к Сталину с просьбой о возвращении в России, - ответа он не получил. От Сталина не получил. А мир – его признал. Немецкий классик Томас Манн написал Наживину: «Ваш «Распутин» — монументальное произведение и был для меня во всех отношениях – в историческом, культурном и литературном – большим откровением». Роман «Распутин», призванный доказать, что в социалистической революции в России виновно бездарное правление Николая II, был переведен на европейские языки и вызвал большое брожение умов. «Прочитав, …ваши произведения, я чувствую себя исполненной величайшего удивления перед той силой и значением, с которыми Вы, картина за картиной, представляете русский народ», – написала Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии.
Вот, собственно, все, что мы хотели сказать о русском писателе, о котором на родине и сегодня-то знают недостаточно – даже место рождения Ивана Надеждина толком не ясно: то ли Москва, то ли деревня Пантюки, Владимирской губернии.
Он, «сын мужика, выросший среди народа» ( автобиография 1922 года), стал автором почти сотни художественных произведений – романы, рассказов, публицистику, сочинений для детей и антиутопических фантастических повестей. «Наживин настоящий поэт, рассказчик чарующей силы, одно из самых могучих литературных явлений в тех поколениях, которые идут за Достоевским, Лесковым и Толстым», –писали немецкие газеты в 1925 году.
… Иван Наживин умер эмигрантом в Бельгии в апреле 1940 года. Предположительно, 65-летний писатель был похоронен в Брюсселе на кладбище в секторе для бедняков.
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького