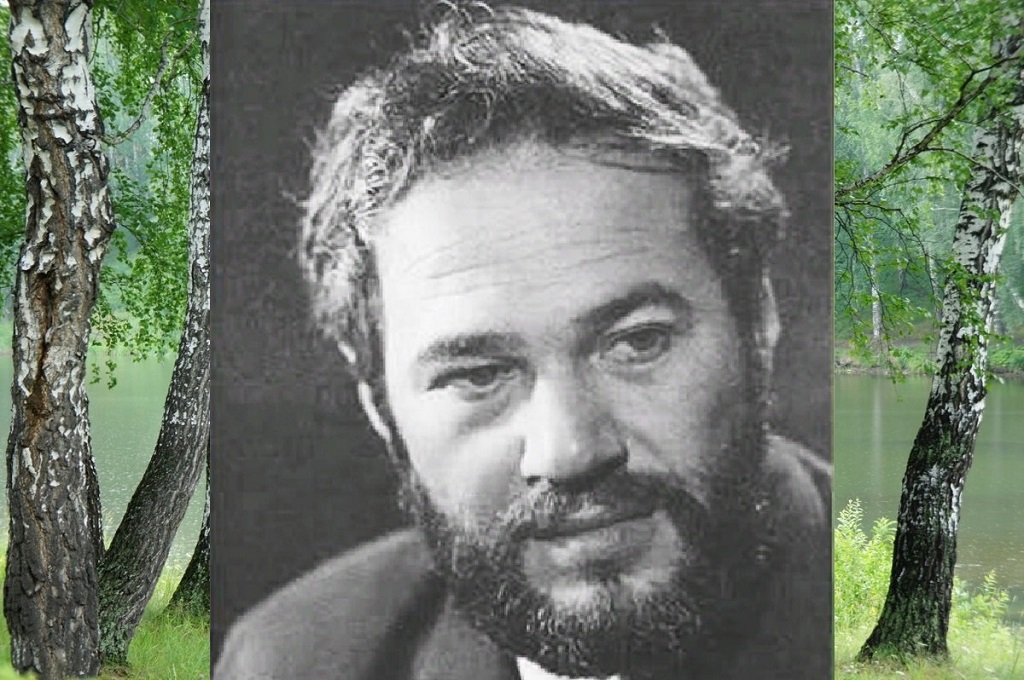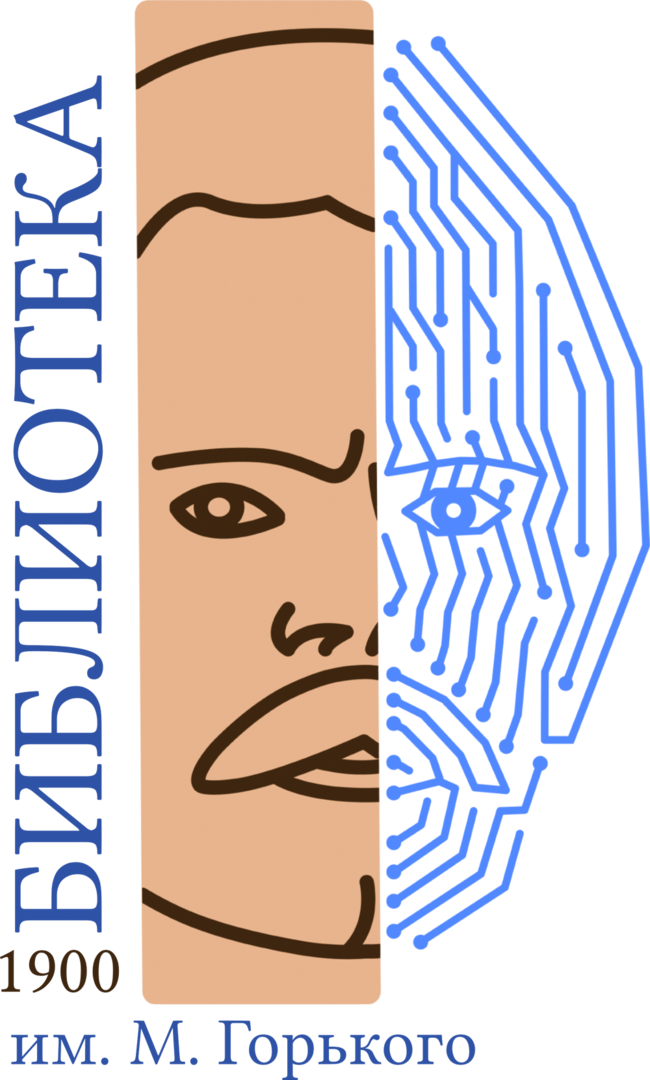Когда о нём заговорили, как о талантливом писателе, он, 22-летний, пожал плечами и начал собирать рюкзак для очередного путешествия
Вдруг я слышу: что-то как плеснёт у самого борта, даже корабль на волне качнуло.
Смотрю: какое-то чудовище за бортом. То отплывёт, то приблизится и тяжко-тяжко вздыхает. Исчезло, появилось впереди корабля, вынырнуло у самой кормы, вода от его всплесков зелёным светом горит.
Кит! А какой, никак не разберу.
Всю ночь за кораблём плыл и вздыхал.
А на рассвете разглядел я его: голова тупая, как кувалда, длинная – ни у одного зверя такой нет, глазки крошечные, а ноздря всего одна. Из воды её высунет, фонтан пара выпустит, вздохнёт тяжело и опять уйдёт под воду.
Это молодой кашалот.
Тут проснулся капитан, вышел на палубу.
Я спросил у него:
– Что это он плывёт за нами?
– Да верно, принял наше судно за кита. Молодой ещё, молоко на губах не обсохло. И видно, отстал от матери, от своего стада. Все кашалоты, как начинаются осенние штормы, уходят к экватору.
Пока капитан рассказывал, кашалот отстал от корабля и поплыл на юг. Фонтан его ещё долго был виден между льдами, потом исчез.
– Экватор пошёл искать, – сказал капитан.
Тут даже и я вздохнул: найдёт ли это маленькое чудовище свою маму?».
(Геннадий Снегирёв, «Маленькое чудовище»)
«Когда я путешествую по нашей стране, я всегда удивляюсь кедрам в Саянских горах и китам в дальневосточных морях... Когда удивляешься, хочется рассказать, какая у нас огромная страна и всюду столько интересного! В Воронежском заповеднике разводят бобров и переселяют их на сибирские речки. На юге, в Ленкорани, не бывает зимы, а в Тувинской тайге зимой бывают такие морозы, что деревья трескаются. Но мороз не мешает отважным охотникам искать в тайге соболей и белок. Школьники тоже ходят в тайгу вместе с учителем и учатся распутывать следы зверей, разводить костёр. Ведь они, когда вырастут, будут охотниками. Обо всём этом вы прочтёте в книге, и, наверное, вам захочется всюду побывать и всё увидеть своими глазами», – написал сам автор в предисловии к своей книге «В разных краях». Перед тем, как написать, Геннадий Снегирёв был матросом и плавал по Тихому океану. Был звероловом, ихтиологом, смотрителем зоопарка, орнитологом, ходил с геологами по Восточной Сибири и горному Алтаю, участвовал в экспедициях в Якутии, Арктике, Туркмении, Бурятии. Побывал на Курильских островах и на Камчатке – да где он только не был, неутомимый путешественник, ставший детским писателем! Правда, некоторые утверждают, что он буквально родился поэтом… Как сказал Константин Паустовский, «по существу многие рассказы Снегирёва ближе к поэзии, чем к прозе, – к поэзии чистой, лаконичной и заражающей читателя любовью к родной стране и природе, во всех её проявлениях – и малых и больших».
В 2023 году, 20 марта, исполняется 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирёва.
Геннадий Снегирёва родился в Москве. «Мой отчим 17 лет отсидел в лагерях, строил северную Норильскую железную дорогу. Его пытали, и он перенёс эти пытки, потому что его родной сын сражался на фронте, и он не хотел, чтобы на него упала тень. Но сын был уже убит, и если бы отчим знал, что он убит, он бы во всём признался и оговорил бы себя. Отца я своего не знал, потому что родители развелись до моего рождения. Но отчим любил меня, он был физик-теоретик. Он по доносу попал в лагеря, и из него сделали лагерную пыль. Просто. Я жил фактически без отца», – писал сам Геннадий Яковлевич.
Семья жила трудно, впроголодь. Но больше, чем о хлебе Гена мечтал о далёких путешествиях, о чём он также упомянул в автобиографии. Путешествия начались раньше, чем можно было бы предположить, но не при тех обстоятельствах, о каких мечталось – когда началась война, Гена вместе с мамой, бабушкой и дедушкой уехал в эвакуацию. В поволжской деревне под Чапаевском (Самарская область), Гена научился пасти овец, подружился с местными мальчишками, бегал ежедневно с ними в степь. А есть такая примета: кто в степи побывал хоть однажды, на всю жизнь в неё влюбится. С Геннадием так и произошло.
В послевоенной Москве «…я закончил три класса, но мне засчитали четыре – лишь бы я ушёл из вечерней школы. Я был типичным мальчиком военного времени. Я приходил в школу раздетым, а когда уходил – забирал из раздевалки пальто. В ремесленном учился, чтобы рабочую карточку дали. Тогда же голод был… Чтобы прокормиться, приходилось всё время чем-то спекулировать. Особенно выгодно было торговать в розницу папиросами. Тогда были “Пушка”, “Красная звезда”, “Дели”. Мы продавали папиросы, и нам вполне хватало, чтобы купить сайки хлеба и ещё принести домой».
Дома он завёл целый зоопарк – лиса, взятая из зоопарка, морские свинки, собаки, аквариумные рыбки. Он любил бродить по подмосковным лесам: «И стоило мне в осеннем лесу услышать крик синицы, как я обо всём забывал… Это были самые лучшие минуты моей жизни».
«На Чистопрудном бульваре я увидел человека, окружённого нашей дворовой шпаной. Человек был высокий, в куртке, сшитой из клетчатого пледа, и он держал в руке пробирку. Я подошёл близко, в пробирке был скорпион заспиртованный. Детям он рассказывал про пустыню, а они слушали, что на месте пустыни было море Тетис. Потом он вытащил вот такие акульи зубы, почти с ладонь, которые были коричневые от времени. И так мы с ним познакомились. И что интересно – это и к другим настоящим ученым относится, – я никогда не чувствовал разницы в возрасте, сколь бы человеку ни было лет. Ведь Иоффе был тогда уже старик…». Так будущий писатель познакомился с учёным-эмбриологом Николаем Абрамовичем Иоффе.
В тринадцать лет Геннадий, так и не окончивших «ремеслуху», начал работать учеником препаратора на кафедре ихтиологии Московского университета. На биофаке преподавали учёные с мировыми именами: Николай Плавильщиков, Петр Шмидт и другие. «Это и было моим образованием, потому что я общался со старыми интеллигентами, профессорами… Кстати, кто-то из иностранных учёных отметил, что если самую сложную теорию нельзя объяснить семилетнему мальчику, то это значит теория порочна. Я всегда получал от учёных ответы на самом простом уровне. Общение с ними заменило мне школу и вообще всё. Я в этой атмосфере научился порядочности, честности, всему тому, что мне не позволяло всю мою жизнь врать…».
Полярный летчик, Герой Советского Союза, только что вернувшийся с войны Владимир Дмитриевич Лебедев, ещё до Великой Отечественной начавший читать лекции студентам на кафедре ихтиологии (С 1947 по 1949 год фронтовик Лебедев работал старшим лаборантом кафедры, а в 1949 году поступил в аспирантуру. Интенсивно занимался палео-ихтиологическими исследованиями и в 1954 году блестяще защитил диссертацию на тему «Пресноводная четвертичная ихтиофауна Европейской части СССР», за которую ему была присуждена сначала учёная степень кандидата биологических наук, а затем ученая степень доктора биологических наук), сыграл в судьбе Снегирёва особенную роль. Он взял 13-летнего пацана в экспедицию на Чудское озеро. Вместе они изучали рыбьи кости и чешую и через некоторое время Снегирёв стал сотрудником лаборатории по болезням рыб в Институте морского рыбного хозяйства и океанографии. Он даже впервые вывел в аквариуме дальневосточную креветку лимнеус и амурскую рыбку бычка. «Потом оттуда я перешел во ВНИИ океанологии – там работал мой друг, художник Кондаков – лучший рисовальщик обитателей морей и океанов, специалист по головоногим моллюскам: осьминоги, кальмары».
…Субтильного телосложения Снегирёв увлёкся, помимо ихтиологии, ещё и боксом и стал чемпионом Москвы среди юношей наилегчайшего веса. Однако, спортивные успехи сыграли с юношей злую шутку: «У меня была ангина, когда были соревнования на первенство Москвы. И я вышел на ковер больной. Тогда я получил осложнение на сердце и два года пролежал неподвижно в постели, а было мне 18 лет. Мы жили в комнате коммунальной квартиры, где кроме меня было ещё 10 человек. Моя бабушка, попивая чаек, говорила: “Ну вот, теперь ты никому не нужен, и грузчиком ты быть не можешь. А вот Витя Фокин поступил в электромеханический техникум”. Она пригласила какого-то профессора Шолле. И я слышал, как они шепчутся, и он ей говорил, что я безнадёжен, скоро умру. Но я вылежал. Оставаться в этой комнате я не хотел, и я нанялся лаборантом в экспедицию на “Витязе” по изучению глубоководных рыб Курило-Камчатской впадины. Никто не хотел идти на “Витязе”, потому что он был без дополнительной ледовой обшивки. Раньше на нём возили из Южной Америки в Европу бананы. Я подумал так: или я подохну, или вернусь здоровым. Это был очень трудный рейс: надо было плыть по Охотскому морю, самому бурному и холодному, потом по Тихому океану – через Японский пролив вдоль Тускарора – до Чукотки. Я вернулся выздоровевшим, хотя с тех пор я всё время чувствую себя уставшим».
Тот рейс было очень рискованным. «Чем дальше мы шли на север, тем сильнее были шторма и шквалы со снегом. Ночью всех поднимали по тревоге, чтобы скалывать топорами лёд с поручней, с рей, с палубы. Потом начались ледяные поля. “Витязь” был без ледовой обшивки. И, дойдя до широты бухты Угольной, повернул обратно. …Корабль останавливался на глубине. И производились там всякие исследования… Гидрологи измеряли температуры на глубине 400 метров. А у нас, у ихтиологов, был сачок металлический, стакан такой. Вот мы его опускали, потом поднимали, и всё, что попадалось в самый кошелечек внизу, доставали. Сверху лилась ледяная вода, корабль был весь обледеневший, и топорами рубили лёд, потому что корабль мог отяжелеть. И вот я этот стаканчик приносил к себе в лабораторию и, выливая в сосуд, смотрел, что там есть. Там однажды попалась рыба-лампочка – лампанидус, которая была усеяна и светилась голубыми фонариками. Лампанидус плавал на глубине 400 метров. Он у меня жил только до утра, а к утру фонарики погасли, и он умер. Я думаю, он освещал себе дорогу и другим рыбам, этого никто не знает, но иначе зачем ему эти лампочки, эти голубые фонарики?..»
В 17 лет Снегирёв «переквалифицировался» в звероловы. «На самых глухих речках, болотах, озёрах Белоруссии мы всё лето ловили бобров и, когда кончился летний сезон, перевозили их в товарном вагоне до Омска, а потом, по Иртышу, на небольшой приток-речку Назым. И там выпускали. Я остался до начала зимы наблюдать, как они расселяются по Назыму. Бобровым наблюдателем».
Потом были геологические экспедиции в Центральные Саяны, в Туву. Потом Владимир Лебедев, уже ставший профессором, в 1964 году взял своего молодого друга в рискованный экспериментальный рейс на выживание по сибирской реке Лене, начиная с верховьев и кончая дельтой на севере Заполярья. Экспедиция продолжалась два года. Об этом путешествии Снегирёв позже написал книгу «На холодной реке».
И на том путешествия не закончились. Снегирёв, путешествуя, менял профессии – то был егерем в Копетдагском заповеднике Южной Туркмении, то как заправский оленевод, гонял этих благородных животных на Чукотке.
Другой давно бы на месте Снегирёв уже давно стал знаменитым ученым – что стоило практикующему зоологу написать пару-тройку научных работ и стать молодым кандидатом? Молодой путешественник не задумывался над этим. Карьера его не интересовала. И когда о нём заговорили, как о талантливом писателе, – а его первая книга «Обитаемый остров» вышла в 1955 году, автору едва исполнилось 22, – он только пожимал плечами и собирал рюкзак для очередной поездки.
В литературу же Геннадий вошел следующим образом: вернувшийся из очередной экспедиции 20-летний парень оказался в отдыхающей компании, и развлекал собравшихся рассказами о своих приключениях. Слушали его с большим вниманием, и один из гостей предложил Геннадию записать свои рассказы – их можно будет передать на детское радио. Снегирёв записал, ни на что не рассчитывая, но обещавший слов на ветер не бросал – передал записи своей знакомой. Этой знакомой была поэтесса Вероника Тушнова – она отнесла рукопись на радио, где их сразу же пустили в эфир. После этого автором заинтересовался «Детгиз».
Пока «Обитаемый остров» находился в печати, Снегирёв пошёл в геологическую экспедицию. Вернулся, вновь уехал. У него, как у Джанни Родари, есть свои «сказки по телефону» – бывало, он надиктовывал короткие рассказы московскому редактору действительно по телефону. «Я 14 раз был в Средней Азии, только в Самарканде два раза. В Туркмении я лесником работал. В Батхызе я был – это плато, где запасал Александр Македонский вяленое мясо перед тем, как вторгнуться в Персию. Там гиены, леопарды, кобры, там индийская фауна, фисташковые рощи, царство дикобразов. В Туве я был два раза. Последний раз я писал книгу про оленей. Она вышла во Франции. Я ходил на китобойце «Ураган»».
В детстве Гена любил играть в такую игру: мысленно «оживлял» географическую карту, силясь представить, что происходит в настоящий момент в той или иной точке мира. Уже «маститым», Геннадий Яковлевич говорил: «Когда я вижу незнакомую мне детскую книжку, я всегда думаю: а поможет ли эта книжка ребятам оживить ещё кусочек карты?»
Геннадий Снегирёв: «Для того чтобы писать для детей, да и для взрослых, нужно очень хорошо знать жизнь и иметь слух на язык. Если слуха на язык нет, лучше вообще не браться писать. С композицией ничего не выйдет, если будешь писать то, что видел, как некоторые. Ещё подписывают так: «рассказ-быль». Что это такое? Если пишешь для маленьких, надо постоянно осознавать, что жизнь – это чудо: и в малых проявлениях, и в больших. А писатель не должен заниматься только писательством. Он должен все время менять свою жизнь, тогда у него будет о чём писать… А если ты много видел в жизни, то никогда не ошибешься, даже додумывая. Писатель обязательно должен додумывать. Я люблю таких писателей, чтобы нельзя было ни одного слова выкинуть или вставить. Ведь для того чтобы написать даже коротенький рассказ, нужно подбирать язык для него. Потому что одно слово вызывает к жизни другое. То, что годится для длинного рассказа, совершенно не годится для короткого».
Снегирёв стал автором 150 книг, изданных 50-миллионным тиражом в Советском Союзе, в Японии, Франции, Германии, в Италии и в Польше, в Америке и других странах.
Интересно вспоминал о писателе его друг художник Виктор Чижиков: «Когда Снегирев получил от Союза писателей долгожданную однокомнатную квартиру, первое, что он сделал, построил бассейн по центру единственной комнаты, потом он достал где-то здоровенного осетра и запустил его в этот бассейн. Гена устраивал для друзей специальные показы, для чего даже завел удочку. Проживание с осетром было, к сожалению, непродолжительным, так как от соседей снизу стали поступать жалобы, что бассейн протекает. Была вызвана комиссия. С комиссией беседовала мама Снегирева. Она объяснила, что Гена – писатель, что он пишет о природе, животных. Поэтому он построил бассейн и завёл осетра, чтобы наблюдать за ним и о нём писать. Председатель комиссии поинтересовалась: “А не собирается ли Ваш сын писать про китов?” Судьба бассейна, а с ним и осетра, была решена. Когда моему сыну Саше было лет пять-шесть, я повёл его в Зоологический музей, что на Большой Никитской. В музее мы встретили Снегирёва с дочкой Машей. Гена провёл нас по музею, рассказывая обо всех экспонатах, встречавшихся на нашем пути. Более интересного посещения музея не было в моей жизни! А напоследок он завёл нас в мастерскую, где изготавливались чучела птиц и животных. Оттуда Маша и Саша вышли с маленькими, очень яркими и красивыми букетиками. Это были букетики из перьев попугаев. Оказалось, Снегирёв раньше работал в этом музее, и он попросил девушку-сотрудницу сделать ребятам эти букеты».
Сам Снегирёв описывал случай с бассейном чуть иначе: «Мы жили на пятом этаже, на Комсомольском проспекте. Это была правительственная трасса. Иногда, когда напивался, я безобразничал. Соседи писали на меня доносы, что я безобразничаю на правительственной трассе, тем самым оскорбляя правительство. Однажды я там решил построить аквариум на три тонны воды. Я нашел людей, которые таскали кирпичи, месили цемент, вставляли стёкла. Но соседи пронюхали и решили, что пол провалится на них. Они обратились в газету, и тогда приехал корреспондент Лавров из “Вечерки”, который написал, что писатель Снегирев – а представление у обывателей, что у писателя есть кабинет, пишущие машинки, телефон стоит справа, – построил у себя в новой квартире бассейн, где его жена купалась голая, а потом, выпрыгнув оттуда, выплясывала на медвежьей шкуре. Там не упоминалось то, что мы жили в однокомнатной квартире. В аквариуме я хотел сделать три отделения: для крупных рыб семейства хромисов, в другом – холодноводных, в третьем – я ещё не решил. Но пока мы с женой ездили в ялтинский Дом творчества, вышел фельетон. Мой отчим прочитал его и разломал аквариум, сбросил с балкона кирпичи – ночью, чтоб никто не видел, а потом умер...».
Снегирёва боготворили не только маленькие читатели всего Советского Союза. Желанным гостем детский писатель был на авангардистких «тусовках» – Снегирёв развлекал московскую интеллигенцию своими устными и совсем недетскими рассказами-анекдотами. Ими восхищались Константин Паустовский, Юрий Олеша, Михаил Светлов, Юрий Домбровский, Николай Глазков, Наум Коржавин, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Юрий Коваль и Юрий Мамлеев, Юз Алешковский, Андрей Битов и многие другие. За Снегирёвым пытались записывать, в частности, Владимир Глоцер – но не получалось. Пытались пересказывать – но не выходило. Об этих рассказиках Снегирёва, называя его Зябликовым, упоминает в «Улетающем Монахове» и в «Ожидании обезьян» Андрей Битов.
Скончался 70-летний Геннадий Снегирёв 14 января 2004 года.
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М Горького