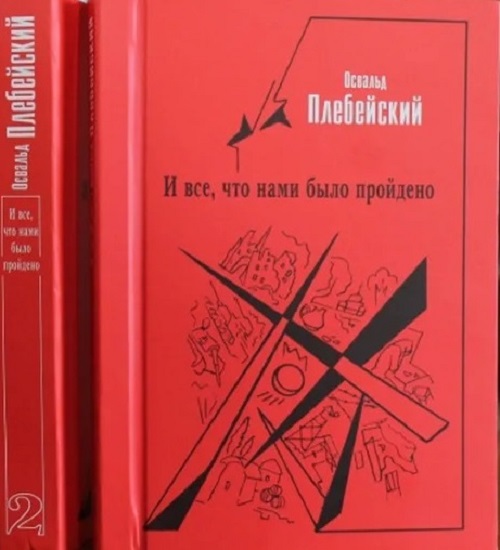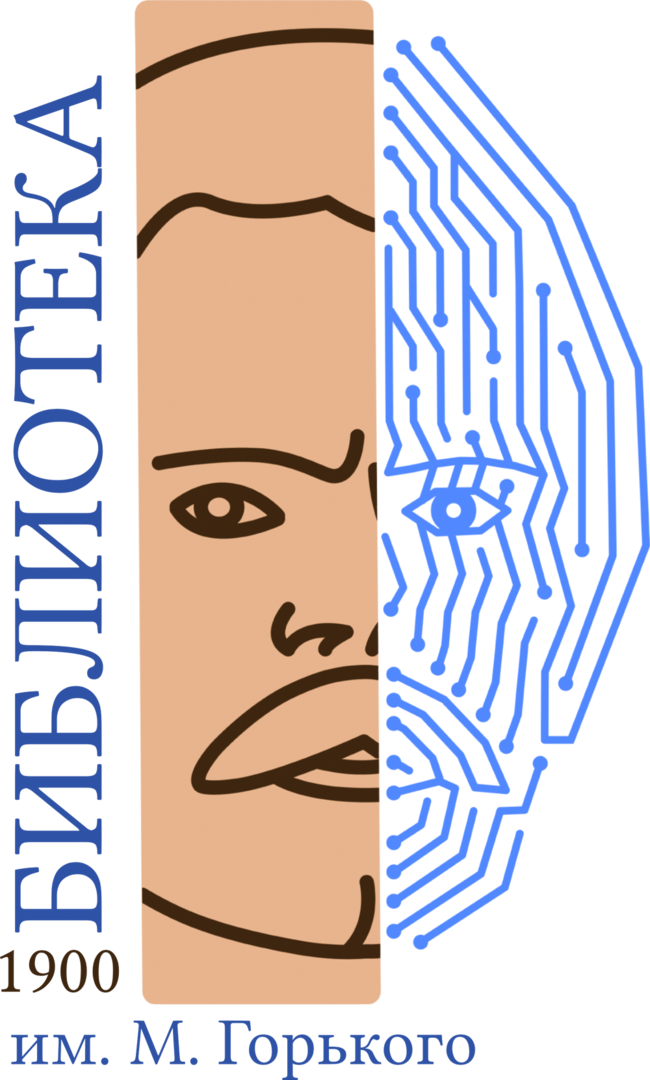«Нам смеяться и плакать с тобой Под вселенскую эту капель»
«…И звали Асфальтом одни меня,
Другие Асфальтом Гудронычем.
С тех пор и живу я странным, —
Как будто в избушке у пасечника —
С именем иностранным,
С душою русского сказочника…»
(Освальд Плебейский)
…Нет, не псевдоним. Волгоградский поэт (или челябинский? Самаркандский? Вздор: просто Поэт. Да, так – с большой буквы) по паспорту – Освальд Лаврентьевич Плебейский. Можете спросить у его сына – Дениса Освальдовича Плебейского, гитариста старейшей в Волгограде рок-группы «Например», он, человек известный и публичный, врать не станет.
Возможно, и не с того, начинаем, но ведь знаем, интересно же все – откуда столь звучное имячко?
Да просто все.
«Над люлькой склонилась будённовка.
Шинель кольчужного веса,
И в губы лизнул меня тоненький
Лучик с головки эфеса.
Отец гоготнул умильно:
«Ну и горластый, бестия!
Савочкин! Что за фамилия!
Нет, мы с ним будем Плебейские,
Народные, то бишь. Поняли!...»
(Освальд Плебейский, «В иное бы время родился я…».
Отец будущего поэта, Лавр Савочкин, родом из уральских крестьян, в 1924 году носил не просто буденовку, но и комиссарские прямоугольники красной эмали на форме. Он лично явился в челябинский ЗАГС регистрировать первенца, заявив, что желает дать сыну имя в честь Интернационала. Легенда гласит, что в ответственный момент отец забыл, как выговорить задуманное имя Зигфрид, но в грязь лицом не ударил, и быстро указал – Освальд. Бравый красный комиссар, помешкав лишь минуту, добавил, что желает и сам сменить свое имя – с Лавра на Лаврентия. Еще с полминуты подумав, он заявил, что отныне не желает быть каким то Савочкиным, а берет фамилию Плебейский, ибо кто был никем, тот станет всем, так поется в «Интернационале» авторства французского поэта-анархиста Эжена Потье. А кто был бесправнее простых древнеримских граждан, пресловутых плебеев, плебса (лат. Plere)?
Словом, требование красного комиссара в ЗАГСе уважили – в те времена это было попроще, чем ныне.
А новорожденный челябинец получил метрику, в которой значился как Освальд Лаврентьевич Плебейский.
Очень, пожалуй, неблагодарное это дело: переводить стихи в прозу. А ведь Поэт с большой буквы Освальд Плебейский прямо говорил – моя биография, это мои стихи.
Действительно:
«…И стал Плебейским. Освальдом попутно
Украсив биографию мою.
Но не добился, в общем, ничего.
Из армии уволили его.
И он уехал с горя в Кара-Кумы,
Стал завом типографии в песках.
Но уж без нас…
…
…Отец мой был разрушен, недостроен,
Чуть виделся, как за холмом светец.
Родным отцом мне стал высокий воин,
Итак, он мне не отчим, а отец».
Лаврентий Плебейский оставил семью, когда маленькому Освальду едва исполнилось четыре года. Дело было уже в Самарканде. Отчимом-отцом для него стал и сестры Сюзанны стал местный милиционер Леонид Иванович Еремин — родовой дворянин, сын «военспеца», полковника царской армии, вместе с солдатами перешедшего в Красную армию. Дети оказались в семье, где царила атмосфера «дворянского» воспитания, были окружены вниманием, заботой, лучшими традициями «прежнего» образования… В доме имелась богатая, «аристократическая» библиотека. Домашние звали Освальда Валей, а в школу он пошел под фамилией Еремин.
В школе Освальд-Валентин начал писать стихи. С одноклассниками под руководством учительницы он выпускал рукописный журнал, который даже победил в конкурсе, и юные авторы получили грамоту с подписями советских детских писателей С. Маршака и К. Чуковского. Будущее казалось безоблачным.
Но в печально знаменитом 1937 году был осужден по статье 58.10 УК РСФСР родной отец Освальда и Сюзанны. Статус «детей врага народа» в то время был сродни клейму. Над головой Леонида Еремина, которого Освальд называл не иначе, как отцом, тоже начали сгущаться тучи – как же, он был из «бывших».
«Отец мрачнел, как сам себя сжигал,
Как будто к людям вдруг свалился с Марса.
И всё шагал по комнате, шагал,
Задумчиво поглядывал на Маркса.
И вдруг вскочил. А тот ли это стул?
И зная всё, все планы и оттенки,
Он партию впервые обманул
И умер, не дожив чуть-чуть до стенки…».
В 1939 году Леонид Еремин умер. До того он, подстраховываясь, отправил жену с детьми в родной им Челябинск – подальше от сгущавшейся над головой грозы.
И действительно: в Челябинске было, вроде, поспокойнее. Стихи 14-летнего Освальда печатала пионерская газета «Ленинские искры» - за подписью Валя Еремин. Стихотворение «Ильментау» с подписью «Валентин Еремин (7 кл., Челябинск)» взяли в готовившийся писателем Анатолием Климовым сборник «Урал — земля золотая» (из-за начавшейся Великой Отечественной войны книга была издана только в 1944 году, когда в составе Одиннадцатого гвардейского танкового корпуса сержант Плебейский с боями шел к Карпатам).
Валентином Ереминым Освальд перестал зваться после того, как в 16 лет получил паспорт, выписанный по официальной метрике.
И именно Освальд Плебейский пошел в 1941 году трудиться на оборонный завод.
«В цех поступают танки —
Железные останки
В пробоинах и в ранах,
И в гусеницах рваных…».
И это Освальд Плебейский в 1942 году поступил в Челябинский педагогический институт на литературный факультет.
А когда встретил Освальд Плебейский свое 18-летие, тут же отправился добровольцем на фронт.
«…А пулемет свое долбит:
Мол, ваше имя-отчество!
Заткнись ты!
Знаю, что убит!
Да умирать не хочется!»
Он воевал в Первой танковой армии — командовал отделением противотанковых ружей, позже автоматчиков.
Из приказа о награждении Орденом Славы III степени: «В боях с немецкими захватчиками за г. Копычинцы 22.3.44 тов. Плебейский проявил отвагу и мужество. Лично из своего автомата уничтожил немецкую засаду в количестве 35 ч. При этом взял в плен 6 немецких солдат и одного офицера. Достоин за мужество и отвагу правительственной награды…».
Получил тяжелое ранение, инвалидность и медаль «За отвагу».
«Долго, долго «пантеры» и «мессеры»
В кошки-мышки играли со мной.
И однажды в кровавое месиво
Раздолбали скелет мой родной…»
На всю жизнь запомнил первого убитого немца, с которым вел огнестрельную дуэль, не раз упомянутою позже в стихах.
«…Ледяшки глаз. Обрез винтовки.
Погон.
Елозит фон-барон!
И вскрикнул я, когда подковкой
Последний высверкнул патрон.
– Убит! Убит!
А ветер хмуро
Ветвями ивы шелестит:
– Чему обрадовался сдуру?
Ведь человек тобой убит!»
«Фронтовые» стихи писал долго и после возвращения с фронта.
«Вернусь домой- и не поверю,
И сам себя возненавижу.
Ведь это я подобный зверю,
добавил столько крови в жижу.
И мы бредем по этой жиже.
Через горящие деревни.
Снаряды рвутся дальше, ближе.
И биться с немцем очень древне.
Да! Очень древне и привычно
Стрелять в немецкие мундиры.
Я убиваю на «отлично»,
Так ,что довольны командиры.
Такой красивый и жестокий,
Я купола громлю и главы,
И, восходящий на Востоке,
Звенит над сердцем орден Славы.
А я в людей и в Бога верю,
А я и мухи не обижу.
И это я подобен зверю?!
Вернусь домой- возненавижу!»
Прихрамывающий, с тростью, осунувшийся после госпиталя Освальд вернулся в Челябинск. Восстановился в институте. С однокурсниками-единомышленниками в январе 1945 года организовал литературное сообщество «Снежное вино» - название «позаимствовали» у Александра Блока. Издавали рукописный одноименный альманах, устраивали собрания, написали устав, даже членские билеты сделали. И «доигрались»: в 1946 году членов сообщества – молодых поэтов и литературных критиков, начали арестовывать и «крутить». «Перспективного» студента заочного отделения Литинститут им. М. Горького О. Плебейского арестовали 30 апреля 1946 года. Вместо своей первой, уже готовившейся к печати книги молодой поэт, фронтовик, орденоносец получил десятилетний срок, и мать Плебейского расплакалась от счастья, потому что прокурор требовал для организатора «шайки мерзопакостных негодяев» высшей меры.
Срок отбывал на Урале и в Степлаге Казахстана. «Вот чем я действительно обязан “отцу народов”: каких людей я встретил в лагере! Невозможно рассказать об их доброте, нравственности, необъятности знаний. И такие люди приняли меня в свой круг!..»; «Я старался не озлобиться, хотел остаться человеком и — поэтом», - вспоминал позже Освальд Лаврентьевич.
Освободился он в конце 1955 года — за 4 месяца до окончания срока. Нужно было начинать жизнь с начала – любимая женщина Освальда из лагеря не дождалась, на работу его не брали, стихи в печать брали с опаской.
Но в 1957 году вышел сборник «Первые строки» со стихами и трех «снежновинцев», в том числе с фрагментом поэмы Плебейского «Старинный дом». А в 1959 Плебейский уехал в Сталинград. Здесь в 1959 году и вышла его первая книга «Стальной календарь».
«… По-сталинградски бились фронт и тыл,
Недаром здесь, у стен победоносных,
На пьедестале каменном застыл
Танк с именем «Челябинский колхозник»…
Большая часть всех книг Освальда Плебейского вышли именно в Сталинграде-Волгограде.
За вторую свою книгу, «Рождение солнца» (Сталинград, 1961), автор получил знак «Участнику строительства Волгоградской ГЭС».
Жизнь на берегах Волги сулила, казалось, только хорошее, а все беды остались в стороне.
Но – это мы говорили в самом начале, что все просто? Не всегда. Все – не просто.
В декабре 1962 года Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев посетил выставку художников-авангардистов студии «Новая реальность» в Манеже, приуроченную к 30-летию московского отделения Союза художников СССР (МОСХ). И она ему не понравилась:
«Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! … Что это такое? Вы что — мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? … Я вам говорю как Председатель Совета Министров: всё это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Всё запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!».
Первое лицо приказало, на местах засуетились. Волгоградское телевидение пригласило представителей городской интеллигенции для демонстрации единства с мнение «главного искусствоведа страны». И участвовавший в передаче Освальд Плебейский подписал себе приговор, в прямом эфире сказав, что никто не вправе диктовать художнику мысли и чувства. Вскоре поэт был вынужден уехать в Челябинск. В 1964 году в Волгограде, тем не менее, была издана его очередная книга «Полдень над плесами».
О. Плебейский работал в Южно-Уральском книжном издательстве редактором отдела поэзии. В Челябинске у него появилась семья, родился сын, вышли книги «Откликной гребень» (1966) и «Посолонь» (1969). Оформителем их стала супруга— художник Элеонора Ивановна Плебейская.
Казалось бы, ничего не предвещало новой беды, … мы вынуждены повториться: неугомонный и несгибаемый Освальд Лаврентьевич не стал мириться уже с челябинскими чиновниками-руководителями и на писательском собрании выступил о неизжитом в организации сталинском культе, об отсутствии критики, и раздал другим сестрам по серьгам.
В 1971 году Плебейский снова уехал из Челябинска… в Волгоград. Здесь его в 1972 году приняли в Союз писателей СССР. Предложили руководить литобъединением в городе-спутнике Волжском.
«Неопытная поэтесска двадцати с лишним лет – я бегала по четверговым вечерам в редакцию «Волжской правды», где проходили занятия литературного объединения «Поиск». С руководителями «Поиску» не то чтобы не везло, но менялись они, как сезоны за окном. Платили за эту работу сущие копейки, а ездить приходилось из Волгограда. Да и не каждый профессионал охоч был возиться с молодняком, не считая это тяжкой обузой для себя. В Волжском, кроме публициста Рафаила Дорогова, профессиональных литераторов не было, а Рафаил Михайлович нашей молодой амбициозности более двух занятий вынести не смог.
И вот однажды вечером нас встретил в кабинете редактора газеты человек с солидной залысиной на лбу, прорезанном тремя выразительными складками, напоминающими птиц в высоком полете, остроглазый, резко хромающий на одну ногу – точь-в-точь капитан Сильвер из «Острова сокровищ». Представился. С надеждой и тревожным интересом мы всматривались в него, угадывая в человеке под пятьдесят сильную, очень непростую личность – в чем не обманулись. Поэтом он оказался ярким, руководителем гибким и умелым. Четверг за четвергом поэт Плебейский и школяры «Поиска» вживались друг в друга и наконец крепко подружились. Освальд Лаврентьевич безо всякого сомнения полюбил своих подопечных и однажды честно признался, что, не окажись в «Поиске» талантливых поэтов, он слинял бы по холодку с наших говорливых четвергов.
Именно от Плебейского я услышала первые профессиональные оценки своих литературных опытов и полезные на будущее советы.
«Таня, – говорил он, – аромат твоих майских ландышей я воспринимаю, но накрученные вокруг этого восторги излишни. Оттолкнись от ландышей и нарисуй чувство. Не говори «люблю», а покажи любовь опосредованно…» – «Как это – опосредованно?» – тупо спрашивала я. Он терпеливо объяснял: «Используй ландыши как образ, наполни их другим смыслом и звучанием, поработай мускулатурой стихи. Твоим строчкам не хватает воздуха и выпуклости». Витька Скибин при этом подпустил хамскую реплику: «Освальд Лаврентьевич, откуда в ней возьмется выпуклость? При такой плоскости и впуклости Брыксиной не светят пышные поэтические формы». Студийцы давились смехом, я посчитала уместным обиженно взрыднуть, а Плебейский с милосердием старшего попытался разрядить ситуацию: «Разовьется! Перестанет читать Асадова и выпуклость появится».
После занятий мы провожали его на 120-й автобус до Волгограда и шли в кафе «Молодость» мириться и договаривать нечто такое, чего не дано понимать остальному миру.
Всю жизнь я считаю Освальда Плебейского своим первым литературным учителем», - пишет известная волгоградская поэтесса Татьяна Брыксина.
…В 1995 году поэт отказался от премии «Сталинград» за творчество на тему Сталинградской битвы.
К 1997 году он подготовил итоговую книгу в почти 600 страниц «Избранное», куда включил и не публиковавшиеся ранее стихи и четыре поэмы: «Стальной календарь» — на основе раннего стихотворения — о трагическом для России двадцатом веке, «Пагуба» — об отце и отчиме, чьи судьбы надломила революция, «Песнь сержанта Первой танковой» — о войне в дополненном варианте — и «Меч судьбы» — о десятилетии лагерей в жизни автора. Он как бы ставил точку, наконец-то сказав все то полностью, что целую жизнь полностью сказать ему не давали.
Освальд Лаврентьевич успел увидеть сигнальный экземпляр книги… но в тираж она пошла уже после смерти Поэта 6 апреля 1997 года.
В 2018 году в Челябинске один из поклонников поклонник поэзии О. Плебейского инженер Е. Б. Трубников подготовил двухтомное собрание его стихов, и оно было издано под названием «И все, что нами было пройдено».
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького