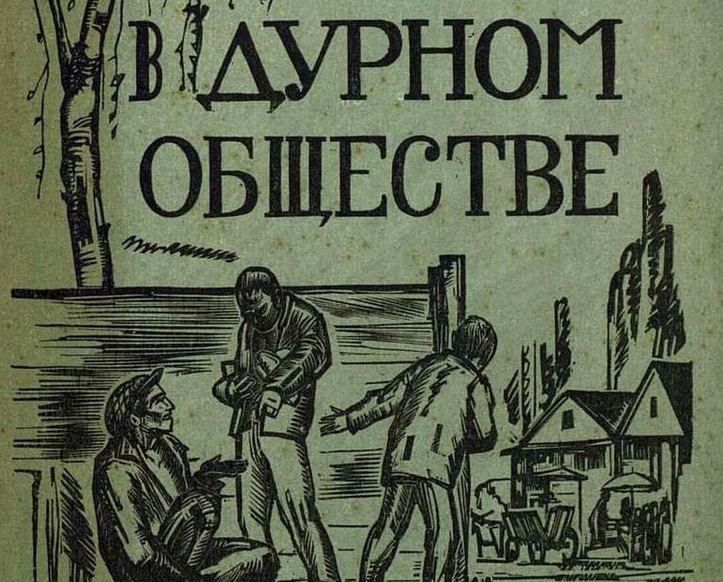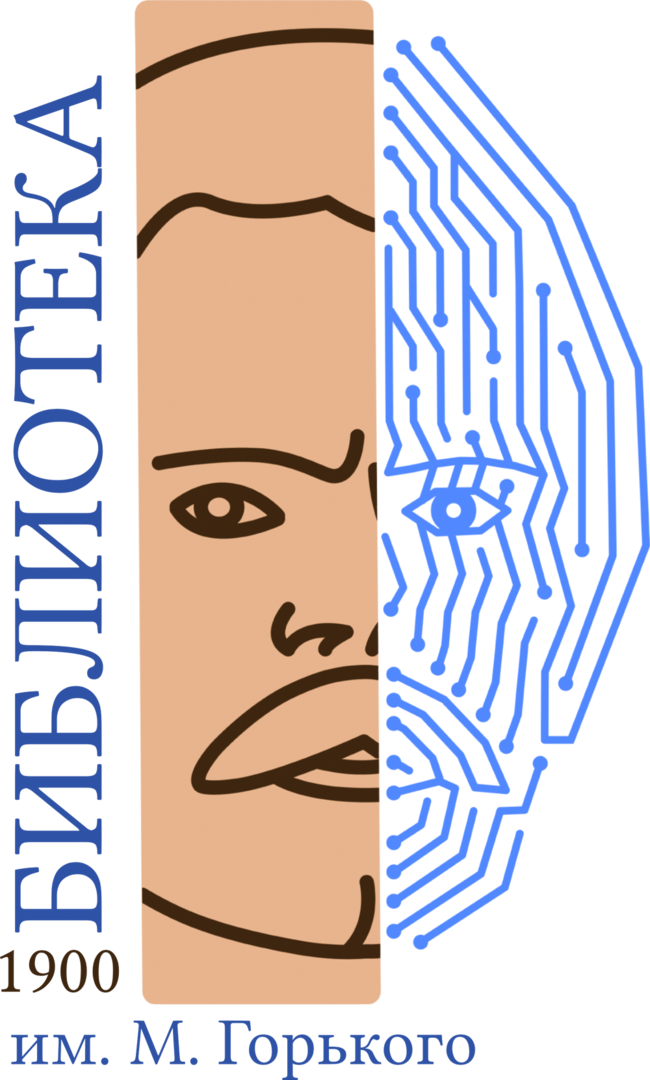Всё, что вышло из-под пера Владимира Короленко овеяно и буквально пропитано добротой, состраданием, человеческой теплотой...
«…Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжёлой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведёт даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты, – он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.
– Кто тебя гонял? – спросил старый Тойон с сердцем.
Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идёт вперёд и смотрит в землю, не зная, куда её гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?
Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...
– Сколько, говоришь ты, бутылок?
– Четыреста, – ответил поп Иван, заглянув в книгу.
Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да ещё настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.
– Правду ли он говорит всё это? – спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он ещё сердится.
– Чистую правду, – торопливо ответил поп, а Макар продолжал.
Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слёзы мёрзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!
А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленой мёрзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.
У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.
А Макар продолжал: у них всё записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжёлою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые ёлки, которых бьют отовсюду жестокие метели.
– Правда ли? – спросил опять старый Тойон.
И поп поспешил ответить:
– Чистая правда!»
(Владимир Короленко, «Сон Макара»)
...Коллекционная памятная монета «Владимир Короленко» была выпущена 20 лет назад, к 150-летию со дня рождения выдающегося писателя и журналиста-публициста, правозащитника и гуманиста. Номинал монеты – 2 гривны, и, да: она выпущена Национальным банком Украины: тогда, в 2003 году в этой стране кресло министра культуры ещё не мог (да и представить подобное было невозможно) занимать человек, гордящийся подготовкой законопроекта «анти-Пушкин», упрощающего демонтаж связанных с Россией памятников. И хвастающий сносом 28 памятников Александру Сергеевичу (сегодня, 27 июля, демонтировали памятники Александру Пушкину и советскому генералу армии Николаю Ватутину в практически родной для Короленко Полтаве), 9 памятников Максиму Горькому, порядка 20 памятников и памятных знаков советским воинам-освободителям, и, особо, ликвидацией памятников российской императрице Екатерине II в Одессе.
Родившийся в Житомере Российской Империи, поляк по матери, Владимир Короленко, много позже писал: «Я нашёл тогда свою родину, и этой родиной стала, прежде всего, русская литература». «Тогда» – это когда Владимир начал учиться в гимназии в Ровно. Любимыми писателями для него стали А. Пушкин, Н. Некрасов, А. Островский, И. Гончаров, И. Тургенев. Критика-демократа Н. Добролюбова В. Короленко впоследствии назовёт своим первым учителем. Дружбу с Максимом Горьким писатель пронёс через всю жизнь.
Нет, Владимир Короленко – не украинский писатель. Он – один из тех «наднацинальных» столпов, что составляют славу Русской Литературы.
В 2023 году, 27 июля, исполняется 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко.
Как писал пару лет назад, к 100-летию со дня смерти Короленко, наш земляк, известный литературный критик и литературовед Павел Басинский, «фигуру выдающегося писателя, защитника людей, борца с несправедливостью затмевают такие его титаны-современники, как Толстой и Горький, а ценность его как художника слова кажется не столь значительной на фоне Чехова и Бунина».
Но можно быть уверенным: всё, что вышло из-под пера Владимира Короленко овеяно и буквально пропитано добротой, состраданием, человеческой теплотой. И во всех его произведениях, начиная с самых ранних, есть мастерская стилистика и словесная грация – в случае с В. Короленко можно говорить о том, что если брать за содержание заслуживающий бесконечное уважение гуманизм писателя, то и формой он владел блестяще.
…Отец будущего писателя, уездный судья, человек строгий и неподкупный, стал образцом для сына. Гораздо позднее В. Короленко запечатлел образ отца в одной из лучших своих повестей «В дурном обществе». При этом, по воспоминаниям Владимир Галактионовича, отец был неудачником.
«По семейному преданию, род наш шёл от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привёз затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посредине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш "герб" и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно: "Korabl i Lodzia" (Ковчег и Ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет... А вот есть ещё герб, так тот называется проще: "pchła na bęnbenku hopki tnie" (Блоха отплясывает на барабане), и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи... И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив её щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских "клейнодах" отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед -– русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели... Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались "сыновьями надворного советника", с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.
Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с лёгкой наклонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы: орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по-наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу...
На лице его постоянно было выражение какой-то затаённой печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха: даже своим поучениям он придавал полуюмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами всё реже, природная весёлость всё гуще задергивалась меланхолией и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости... Так он и сошёл в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черту за чертой, что мог, о его жизни, и образ этого глубоко несчастного человека ожил в моей душе – и более дорогой, и более знакомый, чем прежде.
Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в "послужных списках". Родился в 1810 году, в 1826 поступил в писцы... Умер в 1868 году в чине надворного советника... Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни... Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарование... Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отец сберёг как воспоминание. Это – полуофициальное письмо князя Васильчикова по поводу назначения отца уездным судьёй в город Житомир...
…
Это было... в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через двадцать лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке...
Итак, он был по службе очевидный неудачник...
Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотскою честностью.
Среда не очень ценит исключения, которых не понимает, и потому беспокоится... Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сцены: к отцу являлись "по освященному веками обычаю" представители разных городских сословий с приношениями. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал "представителей" палкой, а те толпились в дверях с выражением изумления и испуга... Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением. Все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона, но... и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные "благодарности", то было бы понятнее, проще и вообще "более по-людски"…»
Из «Автобиографии» Владимира Короленко:
«Прадед, по рассказам моего отца, – был запорожец, казацкий старшина. Это, впрочем, уже смутное семейное предание, факт состоит, однако, в том, что отец происходил из чисто малорусской семьи, и ещё мой дед, чиновник русской службы, до конца жизни не говорил иначе, как по-малорусски...Первоначальное образование (не считая элементарной грамоты) я получил в пансионе В. Рыхлинского, в своё время лучшем заведении этого рода в нашем городе. Затем, поступив во второй класс, пробыл два года в житомирской гимназии. В это время отец, переведённый сначала в г. Дубнó, на место уездного судьи, убитого польским фанатиком, затем перешёл на службу в уездный же город Ровно, той же губернии, куда за ним переехала из Житомира вся семья. Я с братьями поступил здесь в реальную гимназию (в третий класс), в которой в 1870 году и окончил курс (с серебряной медалью)...»
После успешного окончания гимназии Владимир уехал в Петербург, его студенческие годы в Петербургском технологическом институте сопровождалась постоянной нуждой, заставлявшей его подрабатывать. В. Короленко занимался переводами, выполнял чертёжные работы, рисовал карты.
Революционные настроения, бушевавшие в студенческой среде, отвечали взглядам Владимира Короленко – в 18 лет он уже являлся активным членом народнического движения, участвовал в студенческих кружках и сходках.
Между тем, нехватка средств не позволили юноше завершить курс учёбы в Петербурге. В. Короленко переехал в Москву и поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию, где мог рассчитывать на повышенную стипендию. К слову, любимым педагогом у В. Короленко стал профессор Климент Тимирязев.
Получить высшее образование Владимир Короленко так и не сумел – из академии его исключили за революционные настроения в 1876 году. Молодого человека выслали в Кронштадт под надзор полиции.
Очень быстро будущий писатель нажил себе репутацию «политически неблагонадежного» и при любых «заварушках» его арестовывали уже бесцеремонно. Последовала череда ссылок: Вятская губерния, Восточная Сибирь, Якутия.
В далёких сибирских поселениях В. Короленко овладел многими народными ремёслами, открыл для себя неординарные образы местных жителей, каторжников, бродяг. И, главное, В. Короленко начал писать, стремясь запечатлеть все свои новые впечатления. Именно здесь, в Сибири, появились лучшие из произведений писателя «Чудная», «Сон Макара», «В дурном обществе». Однако в печати они появились только после возвращения из шестилетней ссылки.
«Очерки и рассказы» – так незамысловато называлась первая книга Владимир Короленко. Но она стала настолько популярной, что автор моментально встал в один ряд с передовыми деятелями литературы и журналистики того времени. Современникам стало ясно, что миру себя явил новый великий русский писатель.
Знаменитую повесть «В дурном обществе» вскоре опубликовал детский журнал «Родник» в сокращенном варианте под заголовком «Дети подземелья». Характерно, что этот вариант входил в школьную программу советского времени. В числе других произведений Короленко, ориентированных на детскую аудиторию – повесть «Слепой музыкант».
Владимир Короленко прославился и как блестящий публицист. К концу XIX века его влияние на образованное российское общество было огромным, его тексты переписывались и распространялись в студенческих кругах. А писал публицист о самых злободневных проблемах современности: о голоде 1891–1892 годов, о произволе жандармов, о судебных ошибках. Авторитет писателя создал ему «статус неприкосновенности» – власть вынуждена была считаться с В. Короленко.
Не менее 10 лет после ссыльного периода Владимир Галактионович с семьёй прожил в Нижнем Новгороде. К 1886 году относится его знакомство с Львом Толстым, и вскоре с Антоном Чеховым, Глебом Успенским, а затем и с Максимом Горьким. В 1890-е годы Л. Толстой и В. Короленко являлись едва ли не «конкурентами» по степени влияния на умы. Однако, в отличие от философствовавшего Л. Толстого, В. Короленко своим «весом» практическим образом влиял на скандальные судебные процессы – например, защитил крестьян-удмуртов, обвинённых в ритуальном убийстве в так называемом наветном «Мултанском деле» (село в Кизнерском районе Удмуртии, для жителей которого В. Короленко выступил в качестве правозащитника, сегодня называется Короленко).
Став в начале нового века Почётным членом Академии наук по разряду изящной словесности, Владимир Короленко вместе с Иваном Буниным отказался от этого звания в знак протеста против исключения Максима Горького из состава академиков.
Революция 1917 года и последовавшая вскоре за ней Гражданская война застали В. Короленко в городе детства, в Полтаве. Верный своим нравственным принципам, он отстаивал их при любой власти – будь за окном «белый» или «красный», или «зеленый», петлюровский режим. Не будем забывать, что Полтава не раз и не два переходила из рук в руки.
«Дело, конечно, не в руках, а в душах. Души должны переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания для творчества новых форм жизни. Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и в народе – это преступление, которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее – это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ ещё не сознал и с которыми не мог ещё ознакомиться на творческом опыте. И вы в нём виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждёте, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждёт расплата», – предупреждал Владимир Короленко в 1920 году, когда понял отчётливо, что методы, которыми большевики строили социализм, мягко говоря, не совершенны. Эта позиция В. Короленко отражена в его «Письмах к Луначарскому» (1920) и «Письмах из Полтавы» (1921).
«Правительства погибают от лжи. Может быть, есть время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдёт по пути возвращения к свободе», – увещевал он Анатолия Луначарского, которого знал давно лично, и который в 1917 году говорил о том, что на должность первого президента Российской Республики подходит лучше других именно В. Короленко.
Писатель ушёл из жизни в 1921 году, тяжело заболев воспалением лёгких. Врачи спасти 68-летнего писателя не сумели. Последний академик Санкт-Петербургской академии наук, на тот момент уже не существовавшей, скончался 25 декабря в Полтаве. Могила писателя и его жены входит в комплекс Литературно-мемориального музея В. Г. Короленко в Полтаве.
Ещё не меньше 6 музеев, посвящённых Владимиру Короленко, существуют в разных населённых пунктах РФ и Украины. Также в этих двух странах имя писателя носят 17 библиотек, – в том числе, и в Волгограде, – а также школы, пединституты, пассажирский теплоход и малая планета.
«Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, – тяжёлый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:
– Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...
“Тыбурций пришёл!” – промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвёл на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моём плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.
Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.
– Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьёзен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.
– Пан судья! – заговорил он мягко. – Вы человек справедливый... отпустите ребёнка. Малый был в “дурном обществе”, но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!.. Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.
– Что это значит? – спросил он наконец.
– Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. – Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам всё, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.
Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими моё сердце. В эту минуту я ни в чём не отдавал себе отчёта, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск вёсел, – то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразные чувства: гнев и любовь, – так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да ещё были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью... Я всё ещё стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.
– Приходи к нам, – сказал он, – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла…»
(Владимир Короленко, «В дурном обществе»)
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького