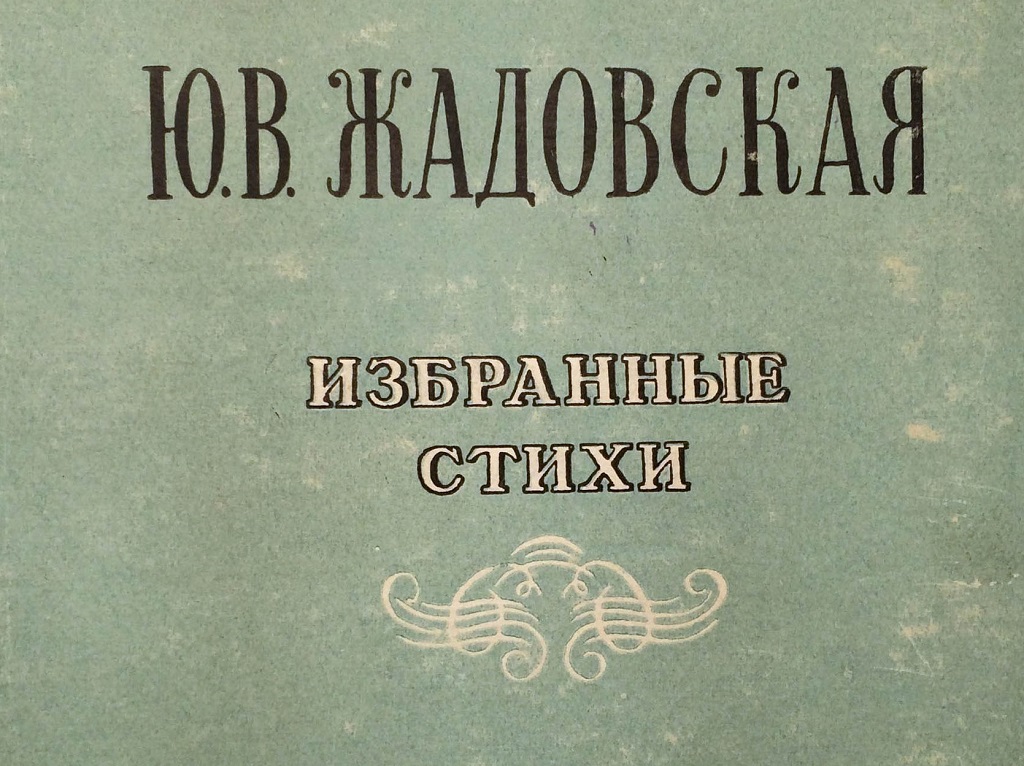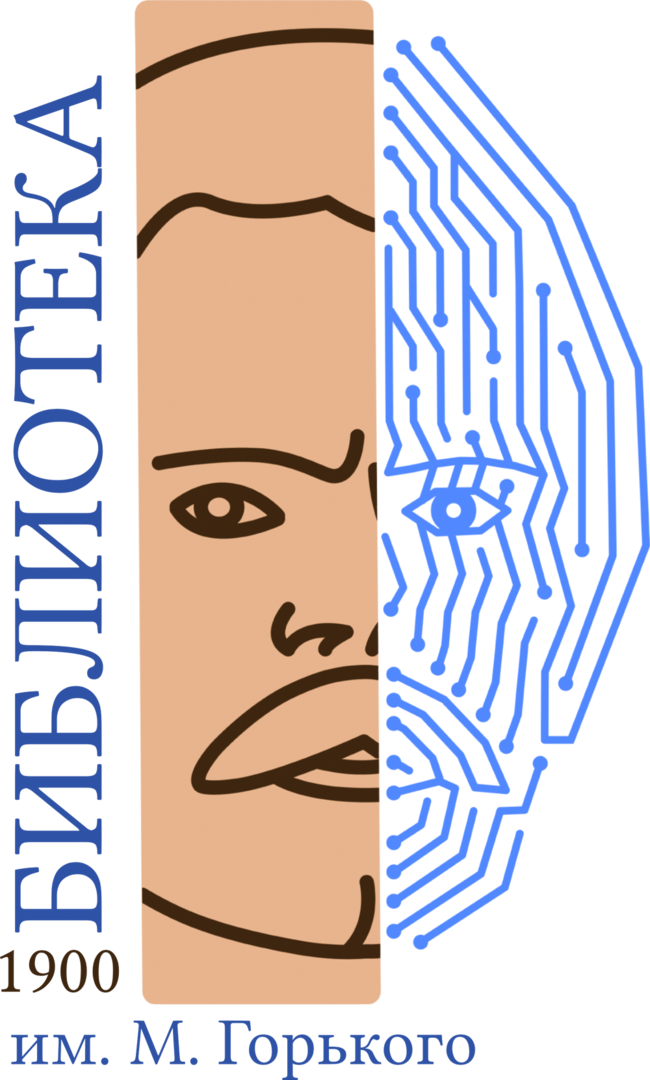«Надо сильно буре Море взволновать, Чтоб оно, в бореньи, Выбросило перл; Надо сильно чувству Душу потрясти, Чтоб она, в восторге, Выразила мысль»
«Маша была как в тумане; она говорила и действовала автоматически. Ей было хотелось казаться большой и удалиться, но она боялась потерять и минуту его дорогого для нее присутствия. Ей казалось в тот вечер, что если её обрекли целый век смотреть на него и слушать его, она почла бы себя счастливейшей из смертных. Налетов сурово указывал ей жизнь и ее требования; он разоблачал перед ней все темное, ложное, трудное; вызывал ее на борьбу, пробуждал ее ум; отгонял рой обманчивых грез и звал навстречу знаниям и труду. А он, Арбатов, как будто вводил ее в роскошный, светлый храм, где должна была разгадаться для нее великая тайна существования, та вечная загадка мира, которая мучит и притягивает и дает смелость дрожащей рукой приподнять темную завесу неизведанного блаженства.
— Боже! что это со мной! — думала Маша несколько дней спустя, ходя по своей комнате, которую Ненила Павловна постаралсь ей устроить со вкусом и комфортом. — Это точно болезнь какая! Все он, везде он! Что бы я ни делала, о чем бы ни думала — все он! С тех пор как увидала его, точно я заколдованная. И не думать о нем стараюсь. Вчера утром даже не вышла в гостиную, когда он был; ничто не помогает — еще хуже, еще тошнее! Умереть было бы, может, лучше. Вот, видно, угадал Никанор Васильич, что я исковеркаю, изломаю свою душу. А из чего, для чего? Неужели так и расстаться в сомнении! И не будет он даже знать, люблю ли я его. Можно с ума сойти. Нет, не совладать мне с собой; нет, уж это роковое. Пусть так и будет. Век прожить и счастья не узнать — это ужасно! А кто мешает? Может быть и прав Никанор Васильич!..
Она вышла в гостиную. Ненилы Павловны не было дома. Маша опустилась на диван усталая, точно разбитая. Бледный поздний луч осеннего заката пробивался в комнату и так кротко и мягко отражался на предметах… Молодая девушка закрыла глаза. Чудная нега разлилась по всему существу ее. Перед ней замелькали заманчивые картины, ей послышался знакомый голос. Полусон, полубред оковал ее.
— Милый! — произнесла она вдруг, склоняясь к кому-то невидимому, но близкому! — милый! как я люблю тебя!..
Она опомнилась от своего движения, любопытно осмотрелась кругом и снова закрыла глаза.
— Я сама в себе не властна! — прошептала она про себя. — Мне кто-то говорил, что это так бывает, да я не верила. А вот сама…»
(Юлия Жадовская, «Отсталая»)
…Начиная с 1857 года, признанная читателями и критикой поэтесса Юлия Жадовская начала пробовать свои силы в прозе. Автобиографический характер носил ее роман «В стороне от большого света». Второй роман Ю. В. Жадовской «Женская история» был опубликован в 1861 году на страницах журнала братьев Достоевских «Время», и также не был лишен автобиографических черт. Эти и другие книги писательницы пользовались определенным интересом о публики, но мнение исследователей единодушно – в прозе Ю. В. Жадовская преуспела меньше, чем в стихосложении.
«Ты всюду предо мной: повеет ли весна,
Я чувствую тебя в ее отраде тайной;
Любуюсь ли цветком, я уж тоски полна, —
Я мыслю о тебе; забросит ли случайно
Холодная луна свой бледный луч ко мне,
Иль кроткая звезда вечерняя сияет, —
Всё это мне тебя, мой друг, напоминает.
Я плачу о тебе в печальной тишине.
Тоской, любовию, разлукою томима,
Вся жизнь моя — бессильная борьба…
Меня гнетет недуг неисцелимый
И неизбежный, как судьба…»
(Юлия Жадовская, «Ты всюду предо мной»)
В 2024 году, 11 июля, исполняется 200 лет со дня рождения Юлии Валериановны Жадовской — русской писательницы и поэта.
Юлия Жадовская родилась в селе Субботине Любимского уезда Ярославской губернии в семье Валериана Никандровича Жадовского, носителя старинной дворянской фамилии, - чем глава семьи очень гордился, - чиновника особых поручений при ярославском губернаторе, позже занимавшего должность председателя ярославской гражданской палаты. Матерью Ю. В. Жадовской была выпускница Смольного института Александра Ивановна Готовцева, чьи успехи в учебе были отмечены на почетной золотой доске.
Увы, не без участия деспотичного супруга, не слишком сладкая жизнь молодой женщины быстро свела ее в могилу.
Но перед тем она родила двоих детей – погодков, младшего Павлушу и старшую Юлию.
Если с мальчиком все было в плане здоровья в порядке, то девочка появилась на свет без левой ручки и всего с тремя пальчиками на правой. Очень быстро выяснилось, что младенец плохо видит. Надежд на то, что младенец задержится на этом свете, у родителей было не слишком много. Но Юлия выжила.
Рано оставшаяся без матери, она воспитывалась бабушкой Н. П. Готовцевой, проживавшей в селе Панфилово Буйского уезда Костромской губернии. С трехлетнего возраста Ю. В. Жадовская пристрастилась к чтению и перечитала всю небольшую библиотеку Н. П. Готовцевой.
В тринадцать лет Ю. В. Жадовскую отправили в Кострому к тетке А. И. Готовцевой – Корниловой, достаточно известной поэтессе, которая в течение года обучала Ю. В. Жадовскую на дому, а затем определила ее в пансион Прево-де-Люмен (Прево-де-Люмьен). В пансионе Ю. В. Жадовская оставалась недолго, недовольная качеством получаемых знаний. Она убедила своего отца в том, что домашнее обучение намного лучше обучения в пансионе, и он забрал девушку в Ярославль.
Домашним учителем Ю. В. Жадовской стал преподаватель ярославской гимназии П. М. Перевлесский. Именно благодаря его моральной поддержке Ю. В. Жадовская начала писать стихи. Одно из ее первых стихотворений было отправлено П. М. Перевлесским в Москву и опубликовано в 1844 году в «Москвитянине» втайне от самой поэтессы. П. М. Перевлесский стал не только учителем Ю. В. Жадовской, но и ее возлюбленным, однако отец девушки пришел в ужас от потенциального неравного брака его любимой дочери с бывшим семинаристом, сыном простого рязанского дьячка.
Да, В. Н. Жадовский действительно очень любил свою дочь, что не помешало ему, по сути, исковеркать ее жизнь. Кроткая и послушная, Юлия подчинилась воле отца и рассталась с возлюбленным, который остался ее идеалом навсегда, которого она не забывала всю свою жизнь.
В. Н. Жадовский, руководствуясь принципом «с глаз долой – из сердца вон» настоял о переводе П. М. Перевлесского в Москву, где тот сумел сделать карьеру в образовании, став профессором Александровского (бывшего Царскосельского) лицея и написав несколько трудов по русской литературе.
Юлия Жадовская, спасаясь от одиночества, с удвоенной энергией начала писать стихи: «Я не сочиняю стихи, — писала она, — а выбрасываю на бумагу, потому что эти образы, эти мысли не дают мне покоя, преследуют и мучают меня до тех пор, пока я не отвяжусь от них, перенеся их на бумагу». Она, испытывая материнские чувства, взяла на себя заботу о сироте, своей двоюродной сестре А. Л. Готовцевой. Значительно позже А. Л. Готовцева написала воспоминания о Ю. В. Жадовской.
Юлия Жадовская постепенно приобрела имя в поэтических кругах, и тогда ее отец начал скупать для нее все литературные новинки, и более того, повез дочь в обе столицы, чтобы она смогла лично «влиться» к «литературную кухню» того времени. Что и произошло. В частности, Юлия Жадовская познакомилась с Иваном Тургеневым, Петром Вяземским и другими известными писателями.
Первые стихотворения Ю. В. Жадовской были опубликованы в «Москвитянине», «Русском Вестнике», «Библиотеке для чтения», а в 1846 году в Петербурге был издан сборник стихотворений.
Творчество Ю. В. Жадовской было по достоинству оценено современниками, в том числе и строжайшим литературным критиком Виссарионом Белинским, который проанализировал сборник стихотворений в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». «Неистовый Виссарион» оставался верным себе и, отмечая бесспорный поэтический талант Юлии Жадовской, сожалел, что источником вдохновения этого таланта является не жизнь, а мечта. Суровая, но «отеческая» критика Белинского сильно повлияла на дальнейшее творчество поэтессы. Жадовская писала о Белинском: «Он один умел, хотя и резко, но верно обозначить достоинство того или другого произведения. Его сухая правда ценилась мною дорого». О том же она сказали и в стихах:
«Не твердил он мне льстивых речей,
Не смущал похвалою медовой,
Но запало мне в душу навек
Его резко-правдивое слово…»
Николай Добролюбов отмечал наличие подлинной поэтичности, народолюбие поэтессы, ее искреннее стремление отразить в своих стихах тяжелую, полную лишений и страданий крестьянскую жизнь: «Ее сердце, ее ум действительно наполнены горькими думами, которых не хочет или не умеет разделять современное общество. Ее стремления, ее требования слишком обширны и высоки, и немудрено, что многие бегут от поэтического призыва души, страдающей не только за себя, но и за других». Критик причислил сборник стихотворений Ю В. Жадовской «к лучшим явлениям нашей поэтической литературы последнего времени». Дмитрий Писарев также отмечал, что в стихах поэтессы отразилась мягкая нежная душа женщины, которая понимает несовершенство жизни.
Высокую оценку первому сборнику стихов Ю. В. Жадовской дал и талантливый критик конца 1840-х годов Валериан Майков.
«Ты знаешь ли, мой друг, я видела Брюллова!
Как вспомню, веришь ли, заплакать я готова,
Так чувством сладостным душа моя полна,
Так встречей с гением она потрясена.
Мне не забыть всю жизнь отрадной этой встречи,
Ни мастерской его, ни вдохновенной речи.
И все мне видится чудесных ряд картин;
Да, он мечты своей и думы — властелин.
Все образы ему доступны и покорны;
Все дышит, движется под кистью животворной.
Я видела его! Усталый и больной,
Он полон светлого живого вдохновенья.
Я перед ним в немом стояла умиленьи,
Напрасно мой язык искал речей и слов, —
Я только и могла твердить: Брюллов! Брюллов!»
(Юлия Жадовская, «Ты знаешь ли, мой друг, я видела Брюллова»).
В конце 1840-х годов Ю. В. Жадовская завела в доме отца салон, где собиралась публика, не лишенная интереса к искусству и наукам, встречалась с купцами – собирателями рукописей и исторических материалов Семеном Серебрениковым и Егором Трехлетовым. Вместе с С. Серебрениковым она организовала в 1849 и 1851 годах издание двух выпусков «Ярославского литературного сборника», причем без содействия властей, силами и на средства соавторов. В 1858 году был издан второй сборник стихотворений Ю. В. Жадовской, опять же получивший положительные отзывы критиков. Некоторые стихотворения Ю. В. Жадовской настолько полюбились читателям, что были положены на музыку и стали романсами, а стихотворение «Я люблю смотреть в ясну ноченьку» стало народной песней.
«Песней женской неволи» назвал поэзию Юлии Жадовской ее современник Александр Скабичевский. На ее стихи писали музыку Александр Варламов, Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Петр Чайковский, Александр Гречанинов, Сергей Рахманинов. Наибольшей известностью пользовались романсы «Ты скоро меня позабудешь», «Я все еще его, безумная, люблю», «Сила звуков», «Я плачу».
В начале 1860-х годов Ю. В. Жадовская перестала заниматься литературной деятельностью. По сути, она пожертвовала собой и литературной карьерой ради старого друга семьи Жадовских, ярославского доктора Карла Богдановича Севена. Когда у того умерла жена, Ю. В. Жадовская вышла за пожилого человека замуж и стала матерью его детям: «Любовь ушла из моего сердца, и поэзия оставила меня». Замужество также избавило ее от части навязчивой опеки отца, который с годами становился все невыносимей.
Известно, что замужняя Юлия Жадовская все же принимала посильное участие в окружавшей ее культурной жизни – она принимала участие в благотворительных спектаклях и в организации литературных вечеров. На досуге не без удовольствия она занималась цветоводством.
Юлия Валериановна в течение пяти лет ухаживала за тяжело больным отцом. Легенда гласит, что на смертном одре Валериан Жадовский каялся в том, что не дал дочери счастья остаться с любимым человеком и за все просил прощения. Он завещал ей одной всё своё состояние. Но она сочла это несправедливым и разделила наследство поровну с братом, Павлом Жадовским. Ранее именно Павел был любимчиком отца, но затем их отношения испортились. К слову, Павел Валерианович, участник Крымской войны, после военной службы стал заметным писателем, он стоял у истоков русской военной журналистики, и в тоже время долгие годы мучительно завидовал литературным успехам сестры. Впоследствии, после смерти Юлии, именно Павел Валерианович издал полное собрание ее сочинений в четырёх томах – туда вошли проза, стихотворения и часть писем.
Вскоре после того, как скончался отец поэтессы, умер и ее супруг. Юлия Жадовская приобрела усадьбу в селе Толстиково Буйского уезда Костромской губернии, недалеко от Буя и деревни Панфилово, села ее бабушки, где поэтесса провела свое детство. С 1873 году она переехала и постоянно жила в Толстикове. Она продолжила заботиться о его детях, хотя ее собственное здоровье стремительно ухудшалось, особенно зрение. Тем не менее, незадолго до смерти она снова вернулась к поэтическому творчеству.
Юлия Валериановна Жадовская умерла 28 июля (9 августа) 1883 года в усадьбе Толстиково, в возрасте 59 лет. Похоронена в селе Воскресенье рядом с могилой своего мужа.
«Всё ты уносишь, нещадное время, —
Горе и радость, дружбу и злобу;
Всё забираешь всесильным полетом;
Что же мою ты любовь не умчало?
Знать, позабыло о ней ты, седое;
Или уж слишком глубоко мне в душу
Чувство святое запало, что взор твой,
Видящий всё, до него не проникнул?»
(Юлия Жадовская, «Всё ты уносишь, нещадное время»)
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького.