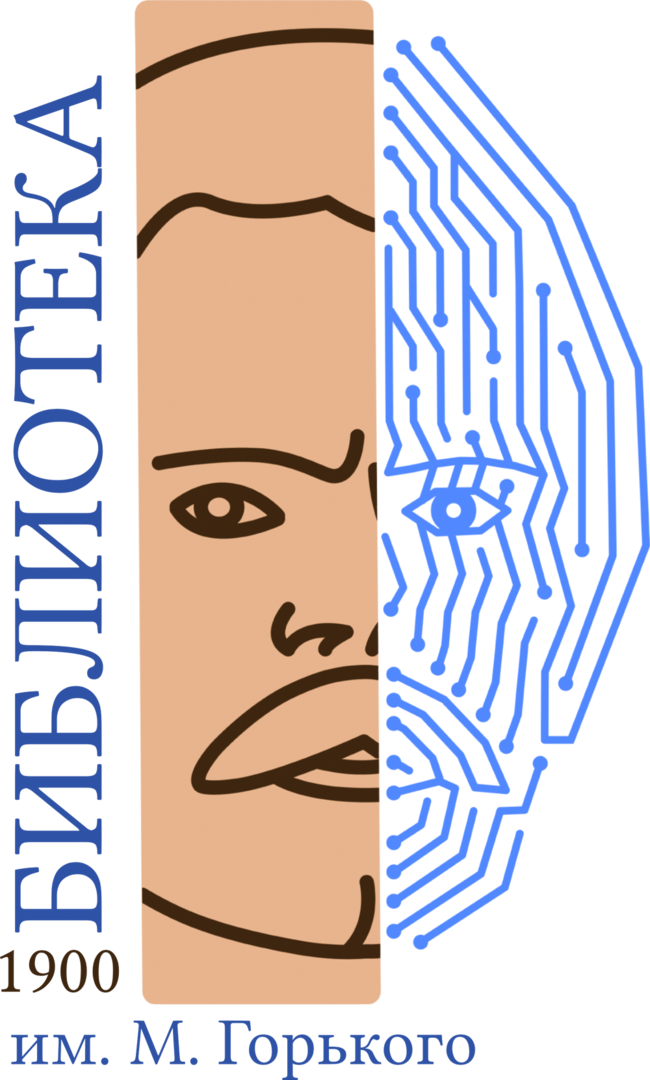«…Наряжая Ерофеева мучеником, мы губим в нём полупьяного святого, поэта и мудреца...»
«– Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?
– Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд повалится под откос? или в Купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?
– Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.
– И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними.
– А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?
– А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.
– И сказать почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен… Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может, еще отчего, но все-таки – ни слова.
– Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».
– Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.
– И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите.
– Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?
– К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое – ну, фиал из севрского фарфора, – или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, – что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!
– Ну, так как же? Скушна эта княгиня? – Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? – В высшей степени легкомысленна!
– Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?
– Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание – весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».
(Венедикт Ерофеев, «Москва–Петушки»)
В 2023 году, 24 октября, исполняется 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990) культового писателя с, как принято считать, трагической судьбой и, бесспорно, светлым взглядом на судьбу.
Тёзка В. Ерофеева, известный писатель и литературовед, занимавшийся, по его собственному признанию, «душевной стоматологией» Виктор Ерофеев назвал Венечку «юродствующим писателем».
В эссе, предваряющем сборник современной отечественной прозы «Русские цветы зла», Виктор Ерофеев писал: «Венедикт Ерофеев предложил русской прозе особый биологический ритм алкоголической исповеди. Возник эффект национальной подлинности. Алкоголик ласковая, застенчивая, трепетная душа – оказался трезвее трезвого мира. Венедикт нащупал серьёзную для русской культуры тему “несерьёзного”, “наплевательского” отношения к жизни, уходящего корнями в религиозное прошлое юродивых и скоморохов. Он предложил и национальное решение: “природный” цикл запоя и похмелья как отказ от навязанных народу идеологических календарей, свой тип наркотического путешествия, ставшего благой вестью о несовместимости советизма и русской души».
В «Русские цветы зла» Виктор Ерофеев включил рассказ Венедикта Ерофеева «Розанов глазами эксцентрика» – эссе Венечки, написанное, кстати, по заказу самиздатовского журнала «Вече» в начале 70-х «прошловековых» годах.
«Рассказ “Розанов глазами эксцентрика” даёт возможность понять томление послесталинской культуры по литературным и религиозным образцам. Изобразив знаменательную встречу русской независимой культуры 60–70-х годов с “серебряным веком”, автор представил её как единственную “надежду” для собравшегося травиться современного интеллигента, разочарованного в прописных истинах рационализма. Непредвиденное, но долгожданное общение с головокружительными парадоксами Розанова расставило всё по своим местам. Оказавшись подпольным, стыдливым морализмом, юродство дало полугерою полуавтору (такие кентавры распространены в другой литературе) силы для продолжения жизни, для проклятия властей предержащих, помогло обрести уверенность в правоте особого сплава самоуничижения и национальной гордости, почувствовать себя сопричастным созвездиям», – поясняет Виктор Ерофеев.
Мы, почему, собственно, слово больше даём тёзке, а не самому Венечке? Тут, как не крути, такая история: Венедикт Васильевич написал не так много сам, как написали о нём самом. После написали, естественно – ну, не любит слава живых в России.
«И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю – умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри, но, не приняв, – умру, и он меня спросит: “хорошо ли тебе было ТАМ? Плохо ли тебе было?” – я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжёлого похмелья. Ибо жизнь человеческая, не есть ли минутное окосение души? И затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой – меньше. И на кого как действует: один смеётся в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только ещё начинает тошнить. А я – что я? Я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует, не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счёт и последовательность, – я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует… “Почему же ты молчишь?” спросит меня господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать…».
(Венедикт Ерофеев, «Москва–Петушки»)
Впрочем, можно оговориться: слава пришла к Венедикту Ерофееву живому: однобокая такая, кривоватая слава. Герой самиздата, чью поэму в прозе рвали на цитаты, Венечка знай себе рыл траншеи под кабель – помните?: «До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь всё-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, кто попроще – одеколон “Свежесть”, а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.
А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.
Рано утром уже будили друг друга: “Лёха! Вставай в сику играть!” “Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!” Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни “Свежести” не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришёл в негодность. А потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так всё сначала».
И вот, значит, Венедикт Васильевич, сын репрессированного отца, воспитанник детского дома, золотой школьный медалист, выгнанный студент нескольких ВУЗов, скитался по окрестностям Москвы, зарабатывая на жизнь не всегда квалифицированным рабочим трудом, а в 1973 году в Иерусалиме напечатали его поэму «Москва–Петушки», а потом, в 1977 году, опять напечатали его поэму на русском языке в Париже.
И надо было бы дожить Венедикту Ерофееву хотя бы до «лихих 90-х»: в рамках антиалкогольной (!) кампании поэма «Москва–Петушки», по началу с большими купюрами, дошла до широкого отечественного читателя (признаемся, самые первые журнальные варианты поэмы появились в конце 1980-х, но кто читал, помилуйте, журнал «Трезвость и культура»?). Взорвав мозги читающим, потому что поэма «Москва–Петушки» – это, конечно, не «Евгений Онегин», и не «Мцыри», и даже не «Кому на Руси жить хорошо», и вообще не имеет ничего общего с тем, что в сознании грамотного советского читателя является поэмой.
Но, увы, сам Венечка к моменту массового «взрыва мозгов» уже давно покоился в могиле на Кунцевском кладбище Москвы: скончался он в 1990 году от рака, мучившего писателя больше десяти лет.
Биография Венедикта Ерофеева, к настоящему времени общеизвестная, в значительной степени мистифицирована – сам герой к этому руку приложил в немалой степени. Соответственно, его литературное наследие для исследователей – кусок лакомой, хотя и небольшой.
Помимо «Записок психопата», начатых ещё 17-летним Венечкой, и всемирно известной «Москвы–Петушков», В. Ерофеев написал также широко известную пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе о Василии Розанове, неподдающуюся жанровой классификации «Благую Весть», а также подборку цитат из Ленина «Моя маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя частично изданы его записные книжки. В 1992 году журнал «Театр» опубликовал письма В. Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной.
По словам В. Ерофеева, в 1972 году он написал роман «Дмитрий Шостакович», который у него якобы украли в электричке. И хотя в 1994 году поэт, художник-нонконформист, философ Слава Лён (Владислав Константинович Богатищев-Епишин) объявил, что рукопись всё это время лежала у него, и он вскоре её опубликует, в печати появился некий фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой.
«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» сегодня пользуется большим спросом у театральных режиссеров. В Волгограде, например, покойный основатель и бессменный руководитель НЭТа Народный артист России Отар Джангишерашвили открыл один из очередных сезонов этой трагикомедией – то было в 2012 году: на наш взгляд замечательный, спектакль этот, однако, не долго оставался в репертуарном портфеле театра – коммерческого интереса, естественно, у волгоградской публики, ханжески шокированной несколькими матерными репликами со сцены, иметь он не мог.
Волгоградский Театр в Леднике тоже осуществил интереснейший проект: читку по ролям «Шаги Командора». В основе действа – эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и собственно пьеса «Вальпургиева ночь или Шаги Командора», в которой, условно говоря, сумасшедшие – единственно живые люди, а санитары-надзиратели и врачи – всего лишь зомби…
…Виктор Ерофеев, повторим, назвал Венедикта Ерофеева «юродствующим» писателям. И в этом, на наш взгляд, спорить с ним не приходится: на Руси издревле юродиевые почитались людьми как подвижники и великие обличители зачастую искусственно насаждаемых мирских «ценностей». Личный друг Венедикта Ерофеева, его крёстный отец (в 1987 году В. Ерофеев принял крещение в Католической церкви) филолог, литературовед, переводчик Владимир Сергеевич Муравьёв называл писателя глубоко религиозным человеком, а ту же поэму «Москва-Петушки» – книгой глубокого религиозного содержания.
«Всё равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке», – это из «Записных книжек» Венечки. И сам он, мастер буффонады, видел ангелов, потребляя «Кубанскую», ставил в один ряд Н. Гоголя и царя Соломона, поминал Царицу Небесную также легко, как Карла Маркса…
Писатель, эссеист и литературовед Александр Александрович Генис написал:
«Интерпретация Ерофеева – тщетная попытка материализовать тень Веничкиного словоблудия. Вкладывая смысл в бессмыслицу, мы возвращаемся из его протеичного, ещё не остывшего мира в нашу уже холодную однозначную вселенную. В момент перевода теряются чудесные свойства ерофеевской речи, способной преображать трезвый мир в пьяный.
Такого – переведённого – Веничку легче приобщить к лику святых русской литературы. В её святцах он занял место рядом с Есениным и Высоцким. Щедро растративший себя гений, невоплощённый и непонятый, – таким Ерофеев входит в мартиролог отечественной словесности. Беда в том, что, толкуя поэму в терминах ерофеевского мифа, мы убиваем в ней игру. Обнаруживая в “Петушках” трагедию, мы теряем комедию; наряжая Ерофеева мучеником, мы губим в нём полупьяного святого, поэта и мудреца, который перестал быть достоянием только нашей словесности».
«…”Человек смертен” – таково моё мнение. Но уж если мы родились – ничего не поделаешь, надо немножко пожить… “Жизнь прекрасна” – таково моё мнение», – глумился Ерофеев в поэме «Москва–Петушки». И, “разбавляя российскую жигулёвским пивом”, дерзал: “Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было “дерзание”. И – Бог свидетель – как я дерзал! Если вы так дерзнёте – вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли, да и не проснулись. А я – просыпался, каждое утро почти просыпался – и снова начинал дерзать…».
(Венедикт Ерофеев ««Москва–Петушки»)
Но.
«…Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберётся в День Суда Тот, Кто, и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников...».
(Венедикт Ерофеев, «Розанов глазами эксцентрика»)
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького