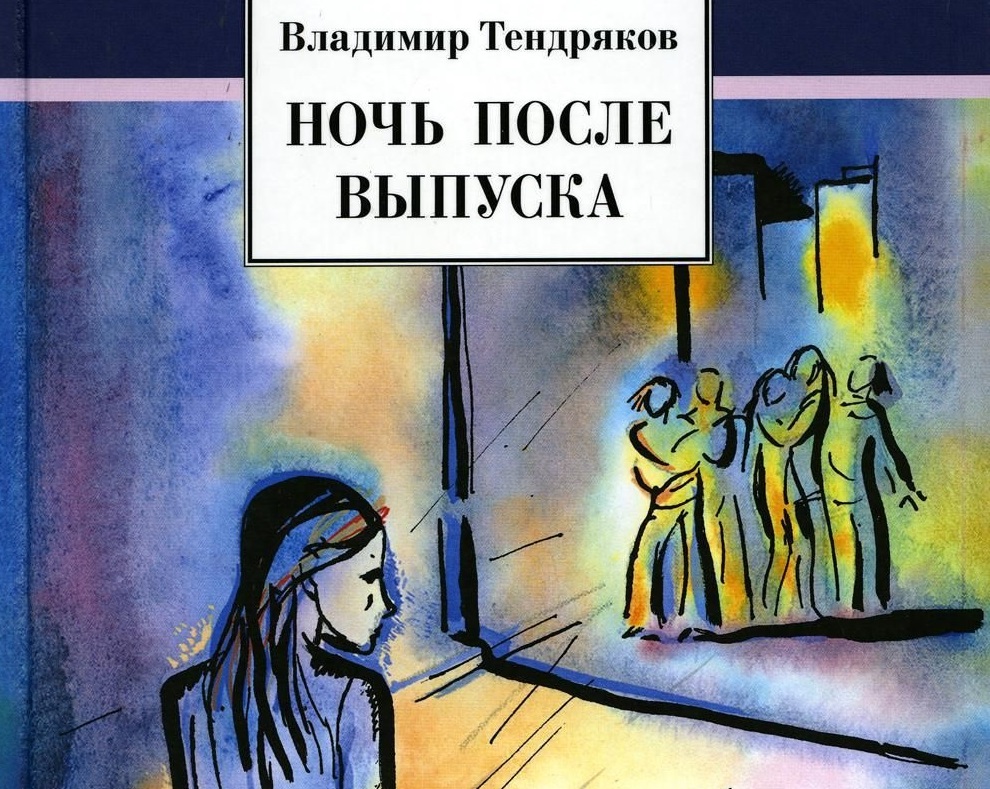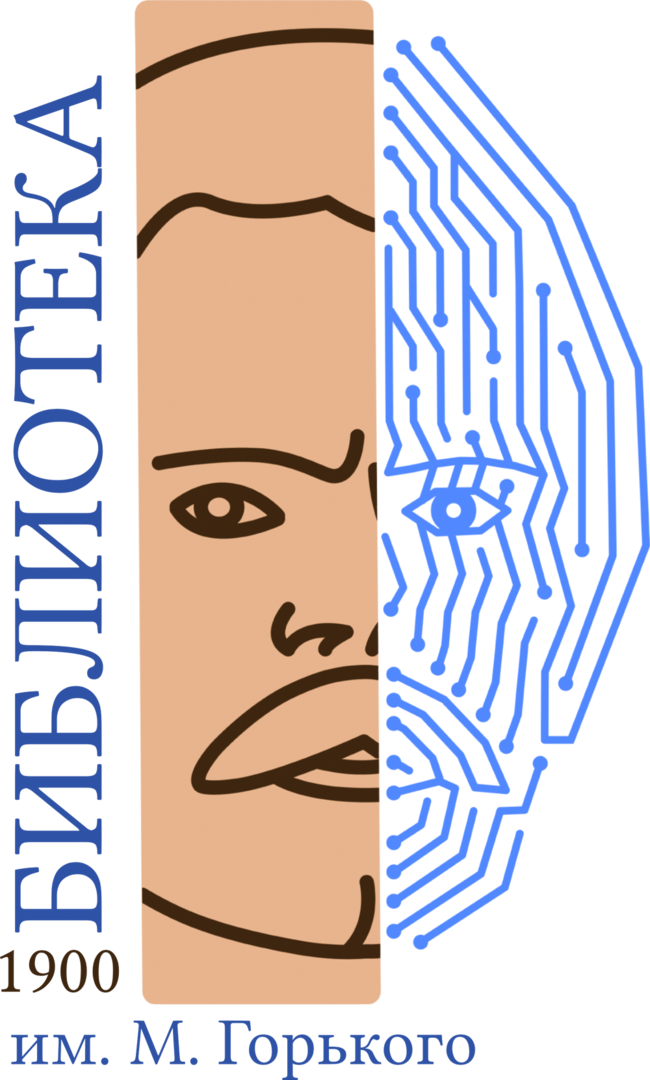«Он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик…»
…Его назвали – «осторожный бунтарь». Он писал много, но и печатался немало. Был известным, причём стал таковым сразу, резко, но не был знаменитым. Его много и многие читали, но им не зачитывались. Он был неудобным для начальников-чиновников, но и для «диссиденствующих» интеллигентов он не был «в доску своим».
Он – это «чисто» советский писатель Владимир Фёдорович Тендряков. В 2023 году, 5 декабря, исполняется 100 лет со дня его рождения.
Очень, на наш взгляд, точную характеристику уже покойному Владимиру Фёдоровичу Тендрякову дал его собрат по перу Юрий Маркович Нагибин: «Тендряков прожил чистую литературную жизнь, хотя человек был тяжёлый, невоспитанный и ограниченный, с колоссальным самомнением и убеждённостью в своём мессианстве. Строгий моралист, он считал себя вправе судить всех без разбору. При этом он умудрился не запятнать себя ни одной сомнительной акцией, хотя бы подписанием какого-нибудь серьёзного письма протеста. Очень осмотрительный правдолюбец, весьма осторожный бунтарь. Но было в нём и хорошее, даже трогательное. Тем не менее, он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик. Это серьёзная утрата для нашей скудной литературы».
Ю. Нагибин, как видим, и сам судил строго, возможно, и излишне строго, но замечательным образом вычленил главное – ещё раз: «…он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик…».
Другой коллега по цеху, Камил Акмалевич Икрамов, сказал, – и это не просто «восточная витиеватость», – так: «Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в середине XX века, то без книг Тендрякова они этого не поймут».
…Владимир Фёдорович Тендряков родился 5 декабря 1923 года в деревне Макаровская Вологодской области. В деревне прошло всё детство будущего писателя, (детские впечатления стали, например, основой автобиографического рассказа «Хлеб для собаки», опубликованный только в 1980-е «предперестроечные» годы), а после окончания школы, в 1941 году он покинул родные места: Великая Отечественная война уже шла. На фронте он был радистом стрелкового полка. Первое ранение получил в боях под Сталинградом. Вернувшись в строй, был вторично ранен под Харьковом. Из госпиталя на фронт он больше не попал, его демобилизовали по ранению, он стал инвалидом. Добавим, что отец будущего писателя, ушедший на войну раньше сына, погиб на фронте.
...Он вернулся домой, учительствовал в селе Подосиновец, был выдвинут на пост секретаря райкома комсомола.
В 1945 году поехал «покорять Москву», вскоре поступил на художественный факультет ВГИКа затем перешёл в Литературный институт им. М. Горького, учёбу в котором завершил в 1951 году. Отметим, что в детстве В. Тендряков увлекался рисованием, и многие прочили ему карьеру художника.
Во время учёбы в Литинституте он стал свидетелем ночного ареста в общежитии будущего знаменитого поэта Наума Коржавина, а тогда студента Эмки Манделя. Позже В. Тендряков описал это событие в повести «Охота».
«В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.
Он был уже не молод, принёс из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.
Его выбрали в институтский партком – за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.
И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова но терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно – пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись – иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.
Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.
Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!
Ему не возражали.
Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.
Каждый из нас – кто таясь, а кто афишируя, – претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали – Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока ещё не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.
Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребёнка – оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое – неожиданно хорошим.
Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.
Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того – взглянул на него по-своему:
Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.
Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...
Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жёсткий человек
Величье точного расчета.
Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...
Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то будёновку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища всё сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая будёновка – Эмку принимали за умалишённого, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.
Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами…
…Возле койки Эмки Манделя двое – штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:
– Вы арестованы!
Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.
– Оружие есть?
Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:
– Что же это?.. За что?.. Товарищи...
- Оружие есть?
– За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..
– Одевайтесь. Собирайте свои вещи!
Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, ещё не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное бельё, неумело его сворачивает. То самое бельё, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.
– Да что же это?.. Я, кажется, ничего...
На лицах гостей служебное бесстрастное терпение – учтите, мы ждём.
Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову будёновку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:
– А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...
Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду "Капитал" вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.
От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:
– Идёмте.
– Можно я прощусь?
– Пожалуйста.
Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:
– Владик, до свидания. Сашуня... Володя...
Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку…
…Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.
Я всё ёще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого – в тюрьму: пропадёт. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актёр?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...
– А я что говорил! – подал голос проснувшийся в своём углу во время ареста Тихий Гришка. – Талант – она штука опасная!
Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:
– Ты дурак.
– Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! – напевное торжество в голосе Тихого Гришки.
Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:
– Кто?..
Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донёс на Эмку. Кто-то из нас... Кто?
…На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:
– Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..
И вдруг впал в неистовое бешенство:
– Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гады!!.
Вася Малов, человек с повреждёнными немецким осколком мозгами, Вася Малов – гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.
Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окружённый ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью».
…Ещё в 1948 году был опубликован рассказ В. Тендрякова в альманахе «Молодая гвардия», а в журнале «Огонёк», корреспондентом которого он стал, Владимир печатал сельские очерки – что-что, а крестьянская жизнь была ему отлично знакома. Работал В. Тендряков и для журнала «Смена». Первые произведения В. Тендрякова носили бесконфликтный характер, ничем не выделяясь из общей массы подобных.
Но уже в начале1950-х годов В. Тендряков перешёл от «репортёрского» взгляда на факты к их исследованию через призму человеческой совести. Первая же повесть, написанная в этом духе, «Падение Ивана Чупрова» (1953), получила живой отклик как у критиков, так и у читателей: мнение этих двух категорий не всегда, заметим, совпадает.
Повесть «Не ко двору», опубликованная в 1954 году, уже через два года была экранизирована на «Ленфильме» режиссёром Михаилом Швейцером. Этот фильм под названием «Чужая родня» способствовал дальнейшей популярности Владимира Тендрякова.
Далее последовал роман «Тугой узел» (1956), выросший из повести «Саша отправляется в путь»: писатель раскрыл тайны жизни секретаря райкома Мансурова, разучившегося отличать «чёрное» от «белого».
Антирелигиозная повесть «Чудотворная» (1958) вновь была экранизирована – одноимённый фильм в 1960 году снял на «Мосфильме» режиссер Владимир Скуйбин.
Одновременно с повестью «Апостольская командировка» В. Тендряков написал роман «За бегущим днём» (1959).
Герои произведений В. Тендрякова зачастую поставлены в экстремальные ситуации, испытываются на прочность, словно в лабораторных условиях. Повести «Ухабы» (1956), «Суд» (1960), «Тройка, семёрка, туз» (1961), «Находка» (1965), роман «Свидание с Нефертити» (1964), повесть «Кончина» (1968) – все эти произведения имеют трагический исход.
В повестях «Ночь после выпуска» (1974), «Весенние перевертыши» (1973) показан калейдоскоп характеров, «злые» соперничают с «добрыми» – В. Тендряков настойчиво «учит» читателей, что правильный путь всегда один, к добру.
В повести «Три мешка сорной пшеницы» герой произведения Женька Тулупов не расстаётся с книгой «Город Солнца» знаменитого утописта Томмазо Кампанеллы. Но, оказывается, что очень горько оборачиваются утопические мечты, и не на них приходится уповать. Также произошло и с героем романа «Покушение на миражи» (1989).
В. Тендрякова сегодня упрекают в том, что он ставил – и ставил часто неуклюже и наивно, – вопросы, не имевшие ответа в условиях советского жизненного уклада. Мол, нравственные искания вообще нелепы в безнравственном обществе, которым, по сути, являлось общество советское. Нам совсем не по душе ни подобная постановка вопроса, ни подобные суждения, отдающие сильным «передёргиванием» образца 1990-х, однако сам писатель в зрелые годы признался, что да, его герои не в силах были зачастую разрешить проблемы, поставленные перед ними.
По мотивам произведений Владимира Тендрякова и по его сценариям вышел десяток фильмов. Театрами его произведения также инсценировались.
Любопытно, что Владимир Тендряков пробовал себя и в фантастике. Во всяком случае, его повесть «Путешествие длиною в век» (1963) вошло в известную антологию «Библиотеки современной фантастики» «Нефантасты в фантастике» (1970). Роман «Покушение на миражи» (1982), изданный уже после смерти писателя, имел первоначальное рабочее название «Евангелие от компьютера». Вдове писателя Наталье Григорьевне досталась незавершённой фантастическая «Повесть о Венере».
Владимир Федорович Тендряков скончался 3 августа 1984 года от инсульта.
«Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плётка? Почему вам кажется, что всё доброе, всё хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого?..»
(Владимир Тендряков, «Чудотворная»)
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького