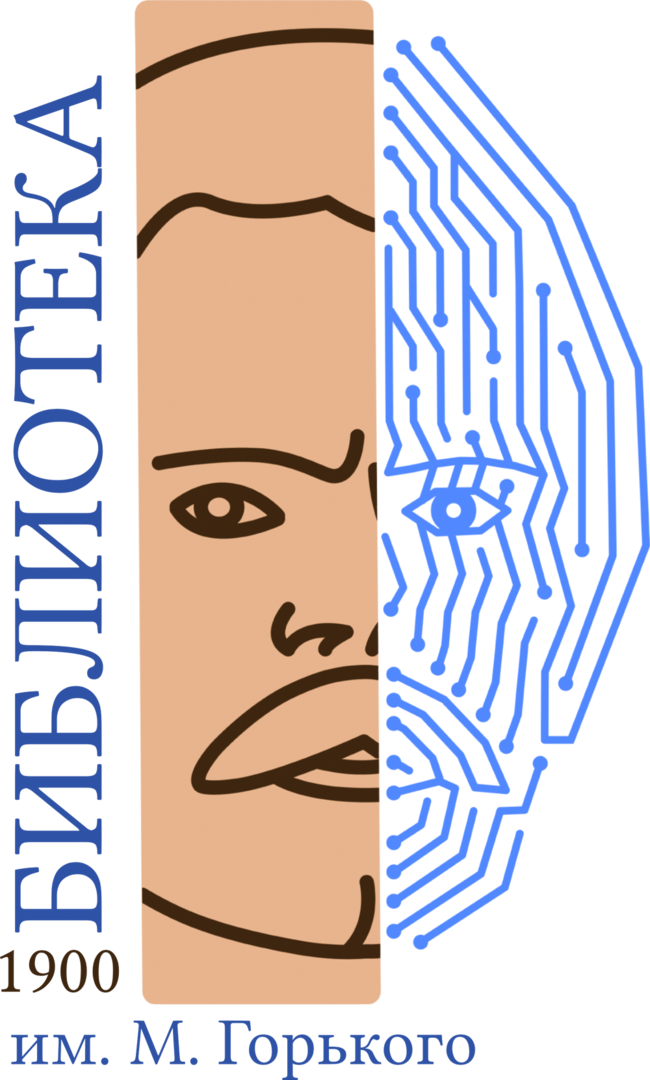Роман «Огонь» и сборник «Происшествия» принесли автору мировое признание, прозвище «Золя из траншей», и престижную Гонкуровскую премию.
Откуда мы? Из разных областей. Мы явились отовсюду. Я смотрю на соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калонн; он розовый; брови у него соломенно-жёлтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; он бешено вращает глазами; у него длинное, худое лицо, как у мушкетёра, и впалые щёки. Действительно, они не похожи друг на друга, как день и ночь.
Кокон, тощий, поджарый, в очках, с лицом, изъеденным испарениями больших городов, тоже резко отличается от Бике, неотёсанного, серого бретонца с квадратной челюстью, тяжёлой, как булыжник; Андре Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка, у которого щёки и затылок вроде ростбифа. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с почти бельгийским певучим говором северян, попавших к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, притягивающие друг друга…
Я ещё помню первую фразу весельчака Тирета, – представившись, он сказал: “Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?” – и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: “Они с меня смеются, потому что я с Морвана…”
Чем мы занимались? Да чем хотите. Кем мы были в ныне отменённые времена, когда у нас ещё было какое-то место в жизни, когда мы ещё не зарыли нашу судьбу в эти поры, где нас поливает дождь и картечь? Большей частью земледельцами и рабочими. Ламюз – батраком, Паради – возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на остром черепе, словно купол колокольни, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколёсном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, словно кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы Дю-Трон, а добродушный бледный Эдор – кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов: как известно, Эдору не везёт. Мениль Андре, ещё довольно опрятный и причёсанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в чёрную блузу, весь в ржавчине, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекюв Адольф и Потерло с самой зари при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, добывали уголь в шахтах на севере.
Есть и другие; чем они занимались, не упомнишь; их смешиваешь одного с другим: есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился… чтобы получить пособие, установленное для жён мобилизованных.)
Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя обыкновенно унтер-офицеры или санитары. В полку брат марист – старший санитар при полевом госпитале; тенор – ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат – секретарь полковника; рантье – капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. У нас нет ничего подобного. Все мы – настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов – артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности у бойниц; они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерское кепи.
Да, правда, все мы разные.
И все-таки мы друг на друга похожи».
(Анри Барбюс, «Огонь»)
«Это было в Москве. Это было уже после нашей победы. Ленин был уже председателем Совнаркома. Я был у него по какому-то делу. Покончив с делом, Ленин сказал мне: “Анатолий Васильевич, я ещё раз перечитал “Огонь” Барбюса. Говорят, он написал новый роман “Свет”. Я просил достать его мне. Как вы думаете, очень много потеряет “Огонь” в русском переводе?”.
– Разумеется, он много потеряет в художественности, – ответил я. – Он потерял бы, даже если его перевести на французский язык. Сочный, выразительный, полный перца и задора солдатский окопный жаргон, которым Барбюс так великолепно владеет, нельзя передать и на французском языке. Но главное сделать, разумеется, можно, – передать всю эту страстную антивоенную зарядку, кошмар фронта, бесстыдство тыла, рост сознания и гнева в груди солдат.
Владимир Ильич был задумчив: “Да, все это передать можно, но прежде всего в художественном произведении важна не эта обнаженная идея! Ведь это можно и просто передать в хорошей статье о книге Барбюса. В художественном произведении важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображенного. Читатель каждым нервом чувствует, что всё именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано. Меня у Барбюса это больше всего волнует. Я ведь и раньше знал, что это должно быть приблизительно так, а вот Барбюс мне говорит, что это так и есть. И он всё это мне рассказывал с силой убедительности, какая иначе могла бы у меня получиться, только если бы я сам был солдатом этого взвода, сам всё это пережил»”.
(Анатолий Луначарский, «Анри Барбюс. Из личных воспоминаний»).
В СССР, пожалуй, не было другого, настолько же знаменитого и почитаемого иностранного писателя, как француз Анри Барбюс. Иначе, наверное, и быть не могло: А. Барбюс – участник Первой мировой войны, член Французской коммунистической партии (с 1923); иностранный почётный член АН СССР (1933), любимец В. Ленина, пропагандист И. Сталина, автор афоризма «Сталин – это Ленин сегодня». Последней книгой писателя стал именно труд «Сталин: Человек, через которого раскрывается новый мир». И он приступил было следом к написанию книги о Ленине – в Москве, в которой и до того бывал неоднократно. Но вот только заболел в столице СССР пневмонией и скончался здесь же 30 августа 1935 года. Гроб с телом А. Барбюса был выставлен для прощания в Большом зале Консерватории, а после перевезен в Париж, и упокоился на кладбище Пер-Лашез, под третьим в мире по величине камне из родонита – уникального минерала, привезённым из Свердловска (это вообще отдельная история). И ставшим тем более бесценным, что несет на себе бронзовый барельеф писателя, а также снабжён отдельной каменной дощечкой с надписью: «Другу рабочего класса Франции, достойному сыну французского народа, другу трудящихся всех стран, глашатаю Единого фронта трудящихся против империалистической войны и фашизма, товарищу Анри Барбюсу от трудящихся Урала (СССР)». Большинство источников также сообщают, что на надгробии из розового шпата-орлеца, «камня утренней зари» уральскими камнерезами якобы выгравированы слова И. Сталина о А. Барбюсе: «...Его жизнь, его борьба, его чаяния и перспективы послужат примером для молодого поколения трудящихся всех стран в деле борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства». Подтвердить справедливость такого утверждения, однако, лично мы совсем не беремся – кое-где побывали, конечно, но до города Парижа не добрались, и сомнения нас одолевают...
В 2023 году, 17 мая, исполняется 150 лет со дня рождения Адриана Гюстава Анри Барбюса.
…Следует сразу подчеркнуть, что знаменитым А. Барбюс был не только в СССР. Согласно канонам советского литературоведения, в 1914 году А. Барбюс добровольно вступил во французскую армию, воевал против немцев во время Первой мировой войны, уже будучи известным писателем. О степени известности первых романов А. Барбюса «Умоляющие» (1903) и «Ад» (1908) судить не берёмся, дебют писателя состоялся в 1895 году, когда А. Барбюс стал автором сборника стихов «Плакальщицы» (1895), бесспорно обратившего на себя внимание. Стихотворения из сборника читали в салонах и публиковали в журналах. Издатели сосредоточили на А. Барбюсе своё внимание… Перед уходом на фронт А. Барбюс опубликовал сборник рассказов «Мы…».
Анри Барбюс родился 17 мая 1873 года в промышленном пригороде Парижа, городе Аньер-сюр-Сен. Отец будущего литератора, Адриан Барбюс был журналистом, театральным рецензентом, критиком, автором несколько своих пьес. Мать Анри скончалась при родах его младшей сестры, и вдовец с двумя старшими детьми перебрался в Париж, отдав дочь-малышку родственникам покойной супруги, проживавшим в Англии.
В столице Анри поступил в колледж Роллена, где проучился с 1883 по 1890 год. Тогда же юный А. Барбюс начал пробы пера, и после колледжа он поступил на литературный факультет Сорбонны.
В 1894 году он защитил диссертацию по философии, а в следующем году составил себе имя, выпустив сборник «Плакальщицы». Согласно официальной биографии писателя, к началу Первой мировой войны произведениями А. Барбюса зачитывался весь литературный Париж, и знаменитого писателя освободили от военной службы, тем более, ему уже перевалило к тому времени за сорок.
Но А. Барбюс, рядовым 231-го французского стрелкового полка, спустился с литературного Олимпа в завшивевшие окопы. Здесь, под грохот канонады, теряя мёртвыми вчерашних соседей по блиндажу, вытаскивая раненых под шрапнельным дождём, Барбюс не забывал вести дневник. А в мировоззрении писателя произошли определённые смещения: в 1915 году он, раненый, с Военным крестом, только-только учреждённым президентом Раймоном Пуанкаре на груди, уже отчётливо знал, какой будет его следующая книга. Так появился на свет роман «Огонь» (1916), натуралистический «Дневник взвода», полный солдатского жаргона, реалистических сцен и революционных настроений. Такое же наполнение имели и новеллы А. Барбюса, вошедшие в сборник «Происшествия» (в русском переводе «Правдивые истории», «Правдивые повести»). Эти произведения принесли автору мировое признание, прозвище «Золя из траншей» (позже коллекцию пышных эпитетов А. Барбюса пополнят «Солдат мира», «Прометей революции» и многие подобные) и престижную Гонкуровскую премию – высшую литературную награду Франции. Книгу быстро перевели на несколько языков, в том числе и на русский, но, разумеется, по понятным причинам в Германии и странах Австро-Венгрии «Огонь» не печатали.
В 1917 году произошедшая Октябрьская революция Анри Барбюсом была принята целиком и безоговорочно. Разразившись целым фейерверком соответствующих оценок-афоризмов, в 1923 году писатель вступил в ряды Французской коммунистической партии.
До того он написал новый роман «Ясность» (1920) – описав процесс переоценки ценностей человека, превращающегося из конформиста и обывателя в революционера.
Писатель стал вскоре учредителем антивоенного объединения «Кларте» и редактором одноимённого журнала вместе с коллегой – писателем Роменом Ролланом. В 1925 году А. Барбюс задумал издание еженедельника «Monde», первый номер которого вышел в свет 9 июня 1928 года и, не являясь ни официальным, ни формальным коммунистическим печатным органом, тем не менее всецело пропагандировал социалистические идеи.
По инициативе Анри Барбюса, поддержанной Роменом Ролланом и Максимом Горьким, в 1932 году в Амстердаме состоялся Международный антивоенный конгресс, на котором А. Барбюс – страстный и непреклонный защитник жертв фашизма, борец за освобождение Георгия Димитрова и Эрнста Тельмана, – стал едва ли не главной фигурой. «В какие только части света, – писал Ромен Роллан, – не отправлялся этот высокий и худой странствующий рыцарь, согбённый под тяжестью своих доспехов, ведя по всему миру свой неустанный крестовый поход против социального угнетения, против империализма, фашизма и войны».
До того в романах «Свет из бездны» и «Манифест интеллектуалов» А. Барбюс обрушился на капиталистическую эксплуатацию, пропагандировал процессы построения социализма в СССР и прославлял деятельность И. Сталина в частности. Этому всецело посвящены специальные издания: «Россия», вышедшее в 1930 году, и «Сталин», опубликованное после смерти автора в 1935 году.
Перу Анри Барбюса принадлежит и известное произведение, далекое от какой либо политики. Это пьеса по его же рассказу «Нежность», герой которого получает в течение двадцати лет пять писем от своей любимой, жениться на которой ему не разрешили родители. Известно, что многоликий, разносторонний Хорхе Луис Борхес, имевший склонность к революционным идеям, но сильно не жаловавший коммунизм, высоко ценил Анри Барбюса.
…Имя Анри Барбюса с советских времен носили и носят улицы во многих городах РСФСР и городах многих союзных республик. Есть улица имени писателя и в Волгограде. Есть – и в обстреливаемых английскими боеприпасами из американских артиллерийских систем Луганске и в Хрустальном Луганской области. В Киеве, в Харькове, в Риге улицы имени Анри Барбюса были…
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького