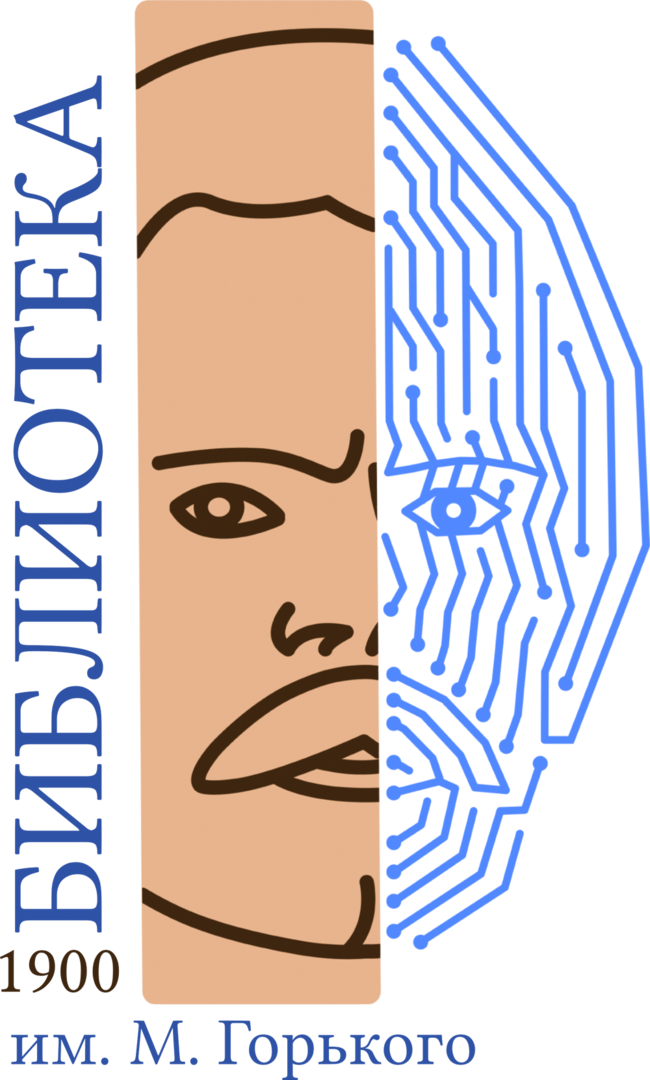«Успенский был истцом, Успенский был и ответчиком…»
«А грешниками нам казались все ужаснейшими: ведь присутствие Парамона держало нас постоянно на недосягаемой высоте над ними. Парамон поселился в нашем саду в беседке и своим примером, своей спиной, обозначавшей кольца железных вериг, своей шапкой, палкой, растрескавшейся кожей ног и рук, своей “посторонней” всему болтовнёй и поступками, никакого смысла не имеющими (например, оборвёт все завязи с дерева), держал нас в непрестанном сообщении с иным миром, в котором нет ни капли того, что есть в этом, где живут Маломальчиковы, инспектора гимназий и учителя немецкого языка. Толчок был силён небыкновенно, и благодаря ему мы неожиданно стали на дороге, по которой можно бы дойти до сознания прав живого человека на земле. Но к Парамонову толчку не было прибавлено никем ничего другого, и мы, покоренные присутствием Парамона, должны были сосредоточить все наши представления об иной жизни только на жизни в раю, как полагал и Парамон, считать обязанностью своею на земле презрение к себе и страдание, а радость, счастие и веселие жизни видеть только в мечтании. Мы поэтому морили себя голодом, представляли себя живущими на Афонской горе, насыпали гвоздей в сапоги, и тот из нас был молодец, у кого из подошв шла от этих гвоздей кровь. Беседку Парамона мы всю увешали картинками, конечно лубочными, духовного содержания: бесы, ангелы, скелеты, старцы-мученики, виды мощей, монастырей, “уединённых мест”, затворников, пещер и проч. и проч., – всё это мы, наперерыв друг перед другом, несли к нему в беседку и наклеивали на стены. На потолке были ангелы, глаз божий, и, уверяю вас, этот глаз был для нас живым, настоящим божиим глазом, который решительно всё видит, всё – до малейших душевных движений. Под этим внимательным и чистым взором мы не смели сказать слово неправды, не смели допустить в душу ни одного дурного побуждения. Всевидящее око глядело на нас, только глядело, а у нас пробуждались понятия правды, искренности, простоты, доброты, пробуждалось всё живое, всё нужное человеку, чего, увы! ни единой капли не давали трудные, безнадёжные условия действительной жизни.
Парамон своей детской радостью этим картинам, радостью вполне бесхитростною, возбуждал нашу восторженность неослабно. Он был неграмотен и ничего не знал, кроме того что мученики мучают себя, и поэтому бывал несказанно рад, когда мы, грамотные, знакомили его по лубочным картинкам с подлинным изложением подвигов разных великих угодников. От нас он узнал жития святых, акафисты и очень удивлялся, что всё это продается и можно купить. Он думал, что всё это можно узнать где-то за пятьсот тысяч вёрст, на необитаемом острове, у каких-то подземных старцев, которые в сто лет съедают один гриб. Он полагал, что надо куда-то идти дальше Иерусалима, что надо “сподобиться” сделать над собой невозможные истязания, чтобы узнать не всё – куда! – а чуть-чуть. Необычайно он был рад, когда узнал, что всё это можно было разузнать тут же, в беседке, хотя упорно продолжал думать, что “самое настоящее” ещё не тут и что надо за ним идти пять тысяч верст, и так же, как прежде, думал, что без истязаний ничего, пожалуй, и не выйдет. Некоторых святых он прямо не любил. И искушения у них мало, и акафист мал, и чудес не слыхать. А иных любил. Тот угодник хорош, которому акафист тянется три-четыре часа, так что у нас пересохнут горла, изноют спины и распухнут досиня колени (мы всё это производили на коленях), а сам Парамон устанет до того, что, поклонившись в землю, не в силах бывает подняться с полу.
Беседка Парамона казалась нам истинным раем. Кроме картин, мы увешали её лампадами (весь дом помогал нам в этом) и по вечерам зажигали их. Окна беседки по вечерам бывали занавешены: Парамон молился и никого не допускал, но этот свет, проникавший сквозь занавески, свет лампад, заставлял нас пламенно завидовать блаженству, испытываемому Парамоном во время молитв. Воображение наше населяло эту беседку ангелами (они являлись к Парамону), небесным светом, голосом, доносившимся с неба. Сад, тёмная ночь – были, напротив, переполнены чудесами и бесами в разных видах, и одна только беседка Парамона, маленькая беседка в полторы квадратных сажени, – вот наше счастье, надежда, цель, всё!».
(Глеб Успенский, «Парамон юродивый»)
«…Великаны – Достоевский, Толстой, – страдая, судили и осуждали. Наш Глебушка отродясь ходил в осуждённых. Он пребывал в покаянии не перед народом вообще, нет, вот перед этим, то есть каждым.
Великаны, томимые дисгармонией жизни, обретали гармонию в своих творениях. Нашего Глебушку, чернорабочего, язвили ожоги третьей степени.
Великанов и двести лет спустя читать станут. Нашего Глебушку и теперь уже призабывают. Оттого он ещё роднее. Он нам современник, мы вместе минемся, оттого и чувство особое, крестами поменялись...»
Прежде, чем пояснить, откуда вот эта цитата, весьма затейливо характеризующая русского писателя Глеба Ивановича Успенского, позвольте сначала ещё одну.
Буквально вчера, 24 октября, исполнилось 85 лет со дня рождения автора легендарной и канонизированной поэмы «Москва–Петушки» Венедикта Васильевича Ерофеева. Открываем поэму, перегон «Есино–Фрязево»:
«– А вот и притом! С этого и началось всё главное – сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! а отчего они пили? – с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: “Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьёт русский мужик, от нищеты своей пьёт! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьёт, от невежества своего пьёт!”
Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ – пишет и пьёт, и пьёт, как пишет. А мужик – не читает и пьёт, пьёт, не читая. Тогда Успенский встаёт – и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире – и подыхает, а Гаршин встает – и с перепою бросается через перила…
Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, – всё выпитое подстегивало его и ударяло в голову, всё ударяло и ударяло… Декабрист в коверкотовом пальто – и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза…».
В 2023 году, 25 октября, исполняется 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского.
Герой «Москвы–Петушков», «черноусый в жакетке», был настолько же красноречив, на сколько не вполне точен.
Успенский – не повесился. Глеб Иванович Успенский (а явно герой Венечки говорит о нём) умер от паралича сердца. Если же вдруг речь о его двоюродном брате, писателе Николае Васильевиче Успенском, сочетавшего литературную работу с бродяжничеством и представлениями перед уличной толпой (играл на музыкальных инструментах, распевал куплеты и частушки, разыгрывал сцены с маленьким чучелом крокодила, от лица которого произносил монологи), то он действительно завершил жизнь самоубийством, только не повесился, а зарезался.
Николай Герасимович Помяловский не совсем то, чтобы «подох под трактирной лавкой» – у писателя после тяжелого приступа «белой горячки» медики в клинике обнаружили гангрену в тяжёлой форме, от которой, собственно, он и умер, в 28-летнем возрасте.
Что касается Всеволода Михайловича Гаршина, то тут «черноусый в жакетке» прав стопроцентно: при очередном приступе нервного расстройства, в возрасте 33 лет, писатель бросился в лестничный пролёт и умер через несколько дней тяжёлой агонии.
Абсолютно, без какого-либо натяга верно сказано обо всех этих писателей то, что они «отчаянно пили»…
Но вернёмся к фигуре юбиляра. Дата рождения Глеба Успенского не выяснена до сих пор. Сам он сообщал, что родился в Туле 14 ноября 1840 года. Эта дата «узаконена» в «Истории новейшей литературы» Александра Михайловича Скабичевского. Публицист, социолог и литературовед, критик, переводчик Николай Константинович Михайловский, написавший одну из самых восторженных заметок о жизни и творчестве своего друга Глеба Успенского, сообщал и аргументировал тот факт, что Г. Успенский родился в Туле 13 октября (25 октября, соответственно) 1843 года.
Впрочем, по большому счёту, дата рождения писателя не столь уж и принципиальна.
Цитата, с которой повели мы рассказ о Глебе Успенском, вложена в уста Николаю Усольцеву – вымышленному персонажу (в отличие от прочих персонажей, вполне исторических личностей) книги писателя Юрия Владимировича Давыдова «Вечера в Колмове». Это книга – о Глебе Ивановиче Успенском. Колмово – это местечко близ Великого Новгорода, в котором располагалась больница для душевнобольных. В этой больнице Глеб Успенский провёл несколько своих последних лет жизни. Врачом и душеприказчиком Г. Успенского был известный психиатр Борис Наумович Синани, знавший писателя и друживший с ним ещё с петербургских времён.
В «Истории русской литературы с древнейших времен по 1925 год» литературовед и публицист Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (Мирский) сообщил об Г. Успенском: «болезнь его приняла форму распада личности. Он чувствовал, что разделился на двух людей, из которых один носит его имя Глеб, а другой отчество – Иванович. Глеб был воплощением всего доброго, Иванович – всего, что было в Успенском плохого».
«Усольцев очень хорошо понимал слитную двойственность в душе Глеба Ивановича. Успенский был истцом, Успенский был и ответчиком. Иск предъявляла та русская жизнь, которая в корчах расставалась с Авраамом в лаптях и, ужасаясь самой себе, отдавалась Хаму в штиблетах. Ответчик же сознавал и вину свою, и ответственность. Никем не судимый, никем не осуждённый, он был приговорён к уяснению и разъяснению причин и следствий. Постигая и то и другое, душил в себе художника ради нагой мысли. И, как на раскрытой ладони, подавал её читателю» – это из «Вечеров в Колмове».
Здесь, в больнице, Глеба Успенского чаще прочих навещал русский революционер-народник, народоволец, эсер и матёрый инсургент Николай Сергеевич Тютчев. «Крепкий, седой, в неизменной блузе и поярковой шляпе, пристукивая палкой, он в Колмово наведывался не ради д-ра Усольцева, а ради Глеба Ивановича, и меня это, правду сказать, не радовало.
Доминирующей чертой его характера была суровость; угрюмая требовательная суровость. От него исходил колючий холод: “Виноват ты, сукин сын, перед русским народом, и нет тебе, шельма, амнистии”. Вот это-то меня и не радовало, каменная десница Тютчева угрожала, на мой взгляд, душевному равновесию Глеба Ивановича», – так сказано о Н. Тютчеве в книге «Вечера в Колмове».
Глеб Иванович Успенский, в советском литературоведении «подаваемый» (в частности, из-за симпатий к Г. Успенскому самого Владимира Ильича Ленина, ценившего писателя за его самостоятельное отношение к народничеству) как прогрессивный писатель, близкий к народническому движению, сам в немалой степени являлся «эсером» (если говорить об идеях социализации земли), а дочь писателя, Вера, была несколько лет женой знаменитого революционера и террориста Бориса Викторовича Савинкова, закончившего свой путь в застенках ВЧК на Лубянке (был ли он убит чекистами, или покончил с собой, – спорят до сих пор). При этом, пишет Давыдов в предисловии к “Вечерам в Колмове”, Г. Успенский “высоко ценил самоотверженность народовольцев, но не принимал их метод, их “террорную доктрину”».
Глеб Успенский родился в семье провинциального чиновника (Глеб старший, у него было 16 братьев и сестер, 8 из которых умерли в детстве). Учился в гимназии в Туле и в Чернигове. Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда был отчислен в связи с материальными затруднениями. Эти же затруднения стали причиной того, что не удалось Г. Успенскому получить образование и на юридическом факультете Московского университета, куда он поступил позже.
Литературный дебют Г. Успенского состоялся летом 1862 года в педагогическом журнале Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». Тогда Г. Успенский выступил под псевдонимом Г. Брызгин.
В 1864–1865 годах Г. Успенский сотрудничал с изданием «Северное сияние», а затем со знаменитым изданием «Отечественные записки». В ту пору «Записками» фактически «рулил» Николай Алексеевич Некрасов. (Журнал основал историк, журналист и издатель Павел Петрович Тугой-Свиньин. Позже издание было передано в аренду издателю и редактору Андрею Александровичу Краевскому. А. А. Краевский оставался официальным главой журнала, но с 1868 года всю редакционную политику осуществлял Н. А. Некрасов. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (М. Е. Салтыков, Щедрин – псевдоним) отвечал за беллетристику, Григорий Захарович Елисеев – за публицистику.) Н. Некрасов и привлёк Г. Успенского к работе: в журнале Глеб Иванович помещал свои произведения до закрытия издания в 1884 году.
С представителями «Народной воли» Глеб Успенский сблизился за границей: он с 1871 года жил в Германии, Франции, Англии.
По возвращении из-за границы Г. Успенский поступил на службу в управление Сызрано-Вяземской железной дороги. Проявившийся интерес к русскому крестьянству, Г. Успенский удовлетворил кардинальным способом: вместе с семьёй писатель поселился в 1881 году в деревне Сябреницы в Новгородской губернии (деревня эта и сегодня стоит на левом берегу реки Кересть, в километре от города Чудово. Дом писателя Г. Успенского был когда то единственным в деревне 2-х этажным; в 1935 году на первом этаже был открыт Музей писателя. В Великую Отечественную войну немцы устроили здесь лазарет и вырубили сад; в 1967 году Музей восстановили). При этом Г. Успенский в деревне проводил отнюдь не всё время – он обустроился и в Петербурге, а также путешествовал по России, посещал Кавказ и Сибирь.
Благополучный период жизни Глеба Успенского завершился в 1889 году. Нервное расстройство перешло в сумасшествие. Современные исследователи упоминают о диагнозе – прогрессивный паралич, или паралитическая деменция, она же паралитическое слабоумие или болезнь Бейля, психоорганическое заболевание сифилитического происхождения. Впрочем, даже у современных любителей «покопаться в белье» хватает, что ли, такта не обвинять писателя в беспорядочных связях и прочих безобразиях: довольно уж того, что пьянство Г. Успенского признано историческим фактом.
Скончался Глеб Успенский в 1902 году. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище. Не в пример своего самоубившегося в 1889 году двоюродного брата-писателя Николая Васильевича Успенского, который ещё при жизни, приобретя репутацию чуть ли не городского сумасшедшего, стал «забытым», Глеба Ивановича хоронили, как говорится, при большом с течении народа и почтили некрологами.
«Хоронили Глеба Ивановича в Петербурге, на Волковом. Народу собралось много, но ни одной мундирной фигуры, никакой официальности. Пел студенческий хор, а казалось, процессия текла в безмолвии, как текут глубокие воды». (Юрий Давыдов, «Вечера в Колмове»)
О ком писал Глеб Успенский? даже одни только названия его рассказов и очерков способны дать ответ на этот вопрос. «Побирушка», «Богомолка», «На старом пепелище», «Больная совесть», «Первая квартира», «Нужда песенки поёт», «По чёрной лестнице»…
Его литературный труд высоко ценили современники, хотя и они признавались, что читать Глеба Успенского сложно. Удивительно, что в заслугу писателю часто ставится его умение точно передать народную речь, «фотографическое бытописательство», и при этом обвинялся Г. Успенский в тяжёлом слоге.
И цитировать Г. Успенского действительно нелегко: «Я знаю одно: в нашей деревенской, крестьянской жизни, в будничном её обиходе чрезвычайно редко встретится вам такое явление, которое бы вы не могли тотчас привести в связь с общим ходом жизни деревенского дня, так и с каждою крошечною частностью, из которых этот день соткан; в глубине этих частностей всегда отыщется центр, главное, вокруг которого группируются эти частности, которое окрашивает их в тот или другой цвет… Побежал народ куда-то с граблями, – стало быть, идёт туча, спешат собирать сено; баба проворно начинает стаскивать с забора развешанное на просушку бельё; мужик промчался в пустой телеге, спешит ко дворам, – надо ему что-нибудь сделать “до дождя”. Каждая из этих мелочей, частностей, ничем не похожа одна на другую, но у всех у них один общий центр. “Дождик, должно быть, будет!” – говорите вы, глядя и на толпу с граблями, и на бабу, и на мужика.
Но вот у меня в руках, на бумаге напечатан, не крестьянский, “по солнушку” живущий, а просто “газетный” день, и читая его, не можешь уловить, что именно связывает первую строчку газетного листа с последней? Афганистан, слух о санитарной комиссии, что, мол, будет заседать седьмого числа, что Сара Бернар продаёт свои юбки, осыпанные бриллиантами, что мещанин Каблуков, придя в трактир, потребовал рюмку водки и нож и, выпив водку, распорол ножом себе горло, объяснив потом в участке, что сделал это с тоски, “так как три месяца жил без прописки паспорта”. За мещанином Каблуковым следует обширная кисейная, газовая статья о балете, за балетом плетётся унылая-преунылая повесть о неурожае в западном углу Пирятинского уезда; далее ещё более плачевное повествование о “кузьке”, а за “кузькой” вдруг, как снег на голову, появляется блестящий посланник княжества Монако, и, имея по правую руку “Кузьку”, а по левую “Ищут (на первой странице) под вторую закладную”, а на третьей – после сообщения о короле Альфонсе, который уехал в Сан-Себастьян, – “Ищут собаку”, “Доктор принимает больных”, “Акушерка с постоянными кроватями” и целая толпа “Ищу!”, “Ищу!”, “Ищу!”, “Студент”… “Дом”… “Сбежал” и, наконец, сам “редактор-издатель”».
(Глеб Успенский, «Простое слово»)
Но те, кто хорошо знали Г. Успенского, в том числе и слабые его стороны, например, его инфантилизм и излишнюю мнительность, отмечали, что «всю свою жизнь он отдал на служение любви и правде», как обобщил Владимир Галактионович Короленко.
Сегодня распространено мнение, что душевная болезнь Глеба Успенского есть результат его «сплошного душевного трепета», которым и писал он свои произведения.
…Ещё раз вернёмся в начало: «Нашего Глебушку и теперь уже призабывают. Оттого он ещё роднее. Он нам современник, мы вместе минемся, оттого и чувство особое...».
«Его наблюдения легко увязываются к современным событиям. Я бы вообще не допускал к государственной службе без прочтения одного-двух сочинений Г. И. Успенского», – высказал мнение в «живом журнале» один из современных авторов, Владислав Булахтин, написавший замечательный очерк о писателе.
Так, что, в прозу Г. Успенского стоит вчитаться. Тогда «призабывать» его просто не получится…
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького