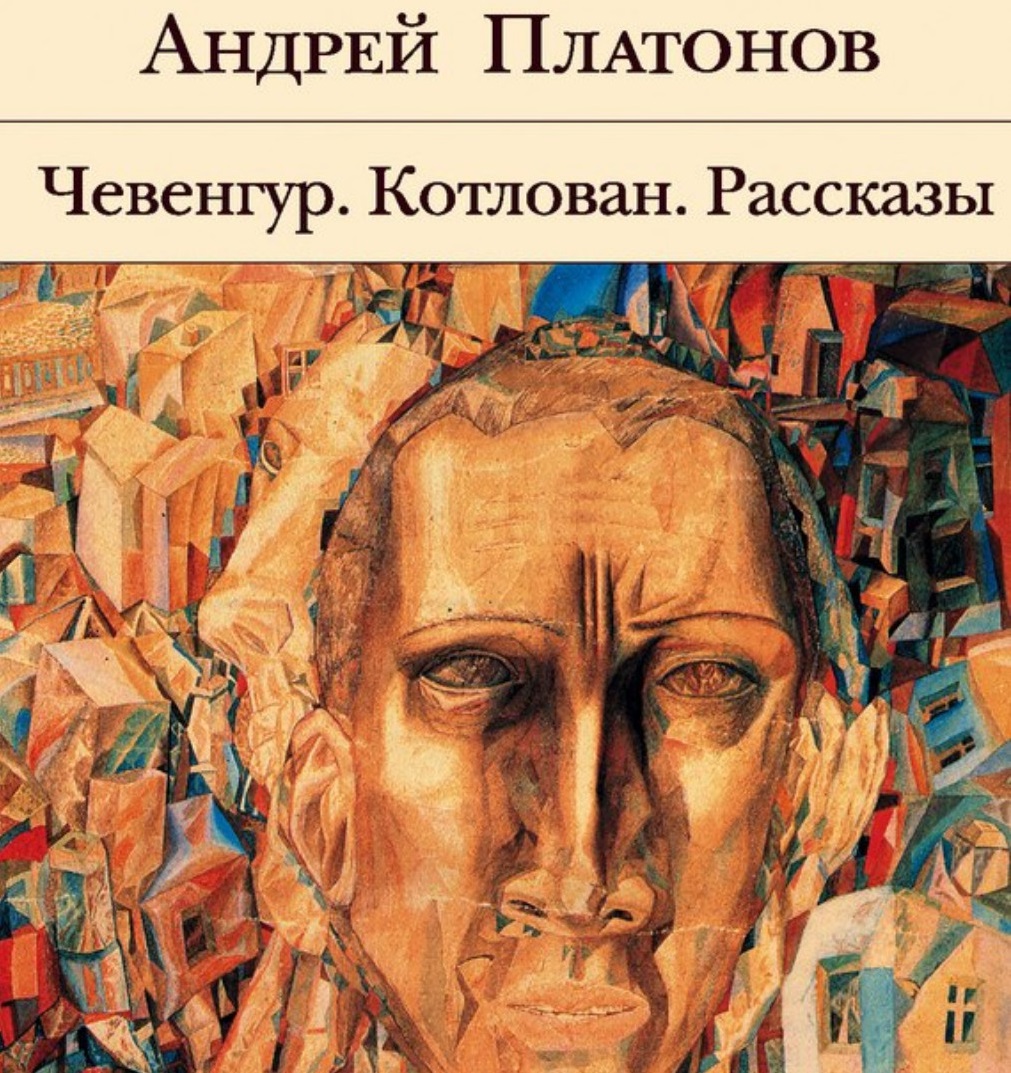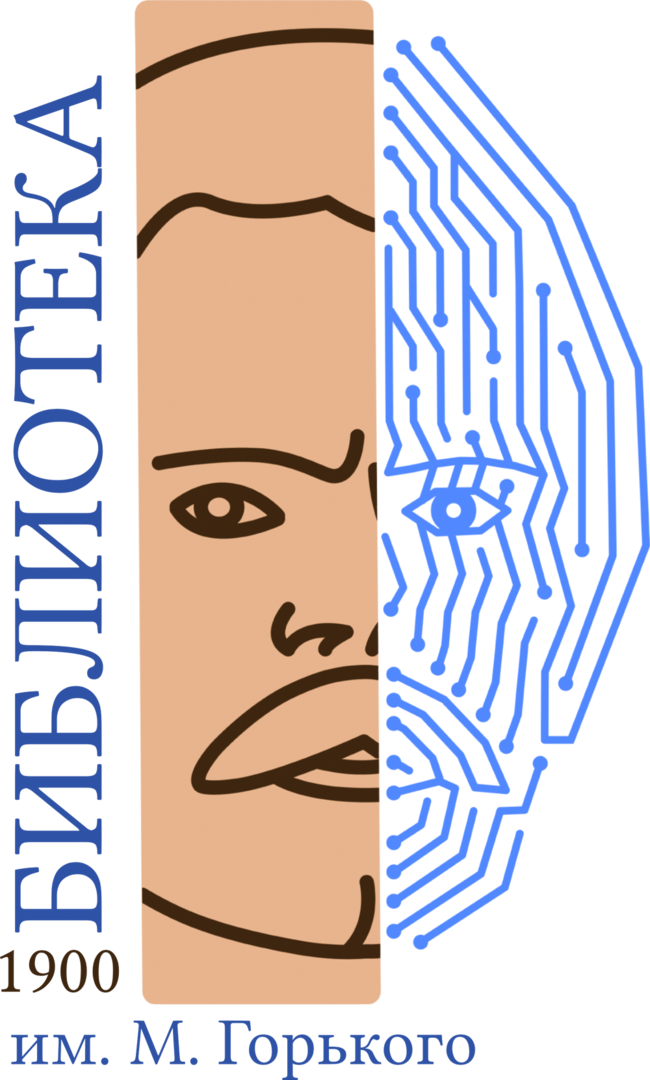«Кто думает, что естественным выходом из страдания является смерть, тот имеет неправильное представление о возможностях человеческого сердца…»
«Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встретил Вощев при своём пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю.
Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности – Пашкин много приобрёл себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил своё тело – не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести своё слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трёх медленных вздохов выпил оттуда каплю.
– Долго я тебя буду дожидаться? – спросил инвалид, Не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. – Опять хочешь от меня кой-чего заработать?
Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился – он никогда не желал тратить нервность своего тела.
– Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?
Жачев ответил ему прямо по факту:
– Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду – любой кодекс для меня слаб!
Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.
– Товарищ Жачев, – ответил Пашкин, – я тебя вовсе не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шёл навстречу.
– Врёшь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попадался, а не ты шёл!
В кабинет Пашкина вошла его супруга – с красными губами, жующими мясо.
– Лёвочка, ты опять волнуешься? – сказала она. – Я ему сейчас свёрток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!
Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.
– Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! – произносил из сада Жачев. – На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведовать такой с...!
Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.
– Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.
– Ого, гадина тактичная какая! – определил Жачев из мрака. – Моей пенсии и на пшено не хватает – на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!
Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свёртком.
– Оля, он ещё сливок требует, — обратился Пашкин.
– Ну вот ещё! Может, ему крепдешину ещё купить на штаны? Ты ведь выдумаешь!
– Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал, – сказал с клумбы Жачев. – Иль окно спальной прошиб до самого пудренного столика, где она свою рожу уснащивает, – она от меня хочет заработать!..
Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на её мужа и целый месяц шло расследование, – даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно свёрток и бутылку, отбыл из усадебного сада.
– И качество продуктов я дома проверю, – сообщил он, остановив свой экипаж у калитки. – Если опять порченый кусок говядины или просто объедок попадётся – надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас – мне нужна достойная пища.
Оставшись с супругой, Пашкин до самой полуночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:
– Знаешь что, Лёвочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность – пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты всё-таки, Лёвочка, доверчивый и нелепый!
Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.
– Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы. Дай я к тебе за это приорганизуюсь!
Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева – по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом».
(Андрей Платонов, «Котлован»)
«В коммунистическую партию меня ведёт наш прямой естественный рабочий путь. Трудно сказать, почему я ранее не вступил в партию: были какие-то полудетские мечты, которые ели зря мою жизнь, мешали глазам видеть действительный человеческий мир, я жалею об этом. Но теперь я начинаю по-настоящему жить и наверстаю потерянное. Теперь я сознал себя нераздельным и единым со всем растущим из буржуазного хаоса молодым трудовым человечеством. И за всех – за жизнь человечества, за его срастание в одно существо, в одно дыхание я и хочу бороться и жить. Я люблю партию – она прообраз будущего общества людей, их слитности, дисциплины, мощи и трудовой коллективной совести; она – организующее сердце воскресающего человечества. Андрей Климентов (Платонов)».
Не завершивший даже восьмилетнего образования советской средней школы, преподаватель в профессорских должностях во многих зарубежных ВУЗах, нобелевский лауреат и безусловный «природный», «от Бога» эстет Иосиф Бродский назвал писателя Андрея Платонова «первым серьезным сюрреалистом».
Андрей Платонов, безусловный «технарь», заменивший гуманитарное образование производственным, прежде значения слова «сюрреализм» узнавший устройство парораспределительного механизма и золотниковой коробки локомотива ИС («Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления, я мог подолгу глядеть на неё, и особая растроганная радость пробуждалась во мне – столь прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина…») был убеждён, что именно таким и должен быть путь пролетарского писателя.
И, разумеется, А. Платонова приняли в ВКП(б). Потом вскоре из-за ссоры с секретарём ячейки – исключили. Андрей Платонов несколько раз подавал заявления с просьбой восстановить его в рядах партии: «…я был в партии большевиков, прошёл чистку и вышел по своему заявлению, не поладив с ячейкой (вернее, с секретарём её). В заявлении я указывал, что не считаю себя выбывшим из партии и не перестаю быть марксистом и коммунистом. Только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи “Правды”. Считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма, в виде электрификации, по организации новых форм общежития. Собрания же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее и человеческое общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу. Я считаю, что такой поступок мой был отрицательным, я личное счёл обязательным для всех, я теперь раскаиваюсь в этом ребяческом шаге и не хочу его ни преуменьшать, ни замалчивать. Я ошибся, но больше ошибаться не буду».
Однако в восстановлении ему отказали.
В 2024 году, 28 августа, исполняется 125 лет со дня рождения Андрея Платонова (настоящее имя Андрей Платонович Климентов). Следует отметить, что точная дата рождения писателя остаётся невыясненной до сих пор. Сам А. Платонов праздновал день своего рождения 1 сентября. Исследователи приводят так же дату 20 августа.
Мы специально начали рассказ о А. Платонове с его заявлений о приеме в партию: он, на наш взгляд, образцовый пример искренней веры в возможность коммунистического светлого будущего; А. Платонов, несмотря на ореол «ненашенского», окружавший его на протяжении жизни и после её окончания – сугубый «продукт» Октябрьской революции, совершенно идейный товарищ. Его биография, его творчество, его быт свидетельствуют об этом. Но, при этом, – А. Платонов действительно «сюрреалист», грандиозный писатель, создавший не имеющий аналогов в русской литературе «первобытный», «нескладный», «самодельный» язык.
Интерес к А. Платонову – к его творчеству, и к его личности, – уверены, будет только расти. Что-то невыразимо мрачное сопутствовало его жизни, что-то почти мистическое.
Сегодня о А. Платонове известно многое: пристальное внимание к нему лично И. Сталина, покровительство М. Горького, дружба М. Шолохова, мрачная опала (но физически он уцелел – в отличие от многих казнённых известных писателей его круга), участие в Великой Отечественной войне, не принесшее ему наград – уже общеизвестны.
Заклинаем: читайте А. Платонова. Читайте его рассказы, выходившие при его жизни, читайте «глыбы» «Котлован» и «Чевенгур», опубликованные после его смерти.
И все – конечно, далеко не все!, – «оценки» А. Платонова, какие мы приводим ниже – только для того, что бы вы оценили писателя самостоятельно.
Повторим Иосифа Бродского: «Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в “Котловане” следовал бы признать первым серьёзным сюрреалистом...».
Писатель Виктор Шкловский: «Платонов – огромный писатель, которого не замечали, – только потому, что он не помещался в ящиках, по которым раскладывали литературу...».
Опять Виктор Шкловский: «Мы все виноваты перед ним. Я считаю, что я в огромном долгу перед ним: я ничего о нём не написал. Не знаю, успею ли».
Иосиф Сталин (пометки в журнале «Красная новь», где была напечатана повесть А. Платонова «Впрок»): «Дурак», «Пошляк», «Балаганщик», «Беззубый остряк», «Это не русский, а какой-то тарабарский язык», «Болван», «Да, дурак и пошляк новой жизни», «Мерзавец; таковы, значит, непосредственные руководители колхозного движения, кадры колхозов?! Подлец». Записка И. Сталина в редколлегию журнала датирована маем 1931 года: «К сведению редакции “Красная новь”. Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. И. Сталин. Р. S. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им “впрок”».
Писатель Вениамин Каверин: «В повести “Впрок” в “Красной нови” (1931) Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Вёрстку он почему-то не просмотрел, и подчеркнутые им строки в типографии набрали жирным шрифтом. В таком-то виде номер журнала попал на глаза Сталину, который оценил повесть Платонова одним словом: “Сволочь”. Двойная жизнь Платонова, мученическая и тем не менее обогатившая нашу литературу, началась в эту минуту. Забыл ли о своей непростительной беспечности Фадеев? Не думаю, хотя в его жизни, состоявшей из компромиссов и сделок с совестью, которые оправдывались понятием “партийного долга”, беспечность, погубившая Платонова, едва заметна, почти неразличима».
Писатель Валентин Распутин: «Один из его героев говорит: “А без меня народ неполный”. И никому не приходит в голову не доверять этим словам или сомневаться в этой наивной простоте, которая составляет у Платонова приземлённую, как бы сознательно не поднимающуюся над землёй мудрость».
Писатель Андрей Битов: «”Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”, как сказал тот же Пушкин. В пьесах за мыслью Платонова следовать легче. Его невероятный язык распределён по репликам персонажей так, что вдумчивый исследователь мог бы проследить и обратный ход: как из речи народной сгущался невероятный язык платоновской прозы. Тут есть некоторая возможность попытки разгадать, как, упростив словарь своей прозы до пещерной (в платоновском смысле слова) простоты, Платонов повергает нас в столь глубокие философские смыслы.
Без советской власти тут никак. Искренняя попытка понять порождает бессвязность речи – эта бессвязность порождает стиль – стиль порождает авторскую речь – она прививается к языку как к дичку… И язык – жив! Так что и без автора тут никак. Круговорот слова в океане речи.
Многие традиционно ошибаются, принимая достижения литературы как искусство, как результат так называемого мастерства, между тем только его отсутствие освобождает подход к реальности.
Платонов не столько писал, сколько пытался написать правду, как он её видел, и эта попытка, прорывая текст, шла всё дальше, всё менее выражаясь, зато всё более отражая реальность более непостижимую, чем замысел, порождая то чудо, которое уже можно называть искусством.
Платонов рискнул не уметь писать».
Журнал The New Times: «Андрей Платонов – единственный пролетарский писатель, не поддавшийся ни на какие соблазны, сохранивший силу духа в самых нечеловеческих условиях и сполна за это заплативший. Возможно, это даже в большей степени, чем феноменальное дарование, нам, теперешним, кажется главным».
Максим Горький (письмо Семёну Яковлевичу Вольфсону): «Но – должен сказать, что русских “молодых” читаю более охотно, даже с жадностью. Удивительное разнообразие типов у нас и хорошая дерзость. Понравились мне – за этот год – Андрей Платонов, Заяицкий, Фадеев, Олеша».
Снова Андрей Битов: «Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда ещё ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче – и вовремя».
Писатель Лев Гумилевский, друг Платонова и автор едва ли не первых мемуаров о нем: «Падавшие на его голову несчастья Андрей Платонович сносил как-то безропотно, не повышая голоса, не отбиваясь, точно имел дело с землетрясением... его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью. Он брал жизнь и действительность такими, как они есть. Его постоянная внешняя мягкость к людям и событиям казалась не врождённой... а само-воспитанной...
Рабочий по происхождению, воспитанию и строю мысли, человек в то же время высокой и тонкой внутренней культуры, Андрей Платонович пришёл в литературу непосредственно от своего рабочего места и всю жизнь среди писателей оставался одиноким.
Пышно расцветший в те годы... писательский снобизм был совершенно чужд Платонову. Он был равнодушен к одежде, которую носил, к обстановке, которая его окружала. В то время, когда все писатели обзавелись авторучками, пишущими машинками, он по-прежнему писал карандашом на простой писчей бумаге. Он работал за своим шведским конторским бюро и был им доволен потому, что оно стояло спиной к дивану, обеденному столу, к печке, входной двери и таким образом отъединяло его от семьи, от гостей, если он писал.
Когда вырос сын, стало больше шума и людей, Андрей Платонович выбросил из ванной комнаты ванну и сделал себе там кабинетик, а мыться ходил в баню, как все рабочие люди. Он не собирал ни редких книг, ни картин, ни даже простой библиотеки, да и собственными книгами не запасался.
Дружеские связи Андрея Платоновича устанавливались случайно, по взаимной симпатии, независимо от других соображений...».
Мемуарист Эмилий Миндлин: «...Платонов был молчаливее всех. Я помню, как он смеялся рассказам Буданцева и Большакова, но не помню, чтобы за весь вечер сам хоть что-нибудь рассказал. А смеялся он как-то легко, с удовольствием. Глаза его оставались печальны – они у него всегда были добрыми и печальными, – но было, похоже – он от души радуется тому, что есть, отчего смеяться, и что благодарен Буданцеву и Большакову. Он вообще с благодарностью смотрел на людей. Казалось, в душе благодарен им за то, что они живут, и за то, что они люди. Смысл этой платоновской благодарности людям за то, что они люди, и за то, что живут на земле, я понял позднее, уже сдружившись с ним и наслушавшись от него об “идее жизни”, которая и была главной идеей всего, о чём писал, говорил и мыслил Андрей Платонов.
Он был человеком, благодарным за жизнь – за факт жизни, за явление жизни. Он смотрел глазами, полными доброты и печали. Этот большой русский писатель был человеком тихого голоса и жизни.
Он всегда говорил ровным голосом, приглушённо... и с удивительной точностью формулировал свои мысли. О чём бы ни начать говорить с Платоновым, постоянно создавалось впечатление, что он уже думал об этом. Невозможно было заговорить с ним о том, о чём он не думал раньше тебя. И не только думал, а с завидной ясностью единственно точными словами русского языка выразил свои мысли. ...по-настоящему мудрый Андрей Платонов был в общении скромен и прост, скромен, но не застенчив, ясен, но не простоват. И очень серьёзно относился к жизни, к явлению жизни.
Речь Андрея Платонова-собеседника очень походила на течение прозы Андрея Платонова-писателя и мыслителя. Она отличалась тихостью голоса и властной ясностью мысли. Речь была убедительна безупречностью своей простоты, как его проза – безупречной точностью образа».
Литературный критик Лев Субоцкий: «В жанре психологического рассказа Платонов не имеет соперников в нашей литературе – его рассказы отличаются высоким уровнем формального мастерства, глубиной и проникновенностью трактовки темы, детальной разработанностью душевных движений. В рассказах Платонова, в его художественном методе всегда живёт ощущение неповторимого своеобразия человеческой личности; писатель внимательно, уважительно, проникновенно присматривается к миру мыслей и чувств маленьких и взрослых людей, всегда находит в нём достойное удивления и восхищения и всегда готов радоваться светлому, хорошему, трогательному, скрывающемуся в этом мире».
Волгоградская писательница Надежда Малыгина: «...Платонов вернулся к читателям конца 50-х годов как “неизвестный” автор. Его имя на протяжении 30–40–50-х годов старались вычеркнуть из истории русской литературы. До конца 70-х годов о нём не упоминал ни один учебник. Впоследствии обнаружилось, что уничтожение памяти о писателе происходило не только по указаниям высшей партийной власти, но и по собственной инициативе литературных “активистов”. Платонов оставался значительной фигурой литературной жизни 20–30–40-х годов, он пользовался не официально санкционированным, а подлинным авторитетом в писательской среде. ...Утопический характер платоновского творчества не вызывает сомнений у исследователей... в творчестве Платонова действует целая система взаимосвязанных, “перетекающих” друг в друга образов-символов. Их источники, перемещения из одного произведения в другое, трансформация их содержания и характер связей оставались неизученными. Это является серьёзным препятствием на пути к истолкованию произведений Платонова. Платонов как художник слова изучен явно недостаточно. Его художественный мир требует целостного системного исследования».
Писатель Алексей Булыгин, поэт Александр Гущин, из совместной монографии «Плач об умершем Боге : повесть-притча Андрея Платонова “Котлован”»: «В отношении творчества Платонова мнения читателей почти всегда полярны. Согласно большинству отзывов, Платонов – писатель очень трудный и читать “Котлован” или “Чевенгур” крайне тяжело. Действительно, для любителей скольжения по строкам чтение платоновских текстов – испытание нелёгкое. Быстро “Котлован” осилить если и можно, то только игнорируя богатейшие смыслы, открывающиеся при размышлении над сочетанием всего-навсего двух–трёх слов, фразой или предложением. Подобные раздумья у истинных поклонников таланта Платонова, понимающих его подлинный рейтинг, могут материализоваться на нескольких страницах и стать предметом целой статьи. Как правило, закончив работу и перечитав платоновский текст, исследователь неожиданно обнаруживает, что осталось ещё очень много им не сказанного, ибо сотворённое Платоновым, развивая наше сравнение, – имеет исключительное положение в пантеоне художественных вселенных, созданных кумирами XX столетия. И снова в итоге появляется желание обращаться к уже, казалось бы, осмысленным фрагментам удивительного автора».
Литературовед Евгений Яблоков: «Платонов – ярчайший представитель сюрреалистического “барокко” 20-х годов... Сквозь сюрреалистический стиль “просвечивает” глубочайшая философская проблема: дихотомия человека и бытия, фатальная “нецельность Универсума...”»
Писатель Лев Славин: «...голос Платонова, один из самых чистых и умных голосов в нашей литературе, почти не звучал в сороковых годах. ...Вообще русское, национальное было выражено в Платонове очень сильно. Выражалось оно, разумеется, не в том, что он носил косоворотки с расшитым воротом или разражался декламацией о любви к родине. Но в языке, в образности, в военной судьбе, в характере мышления, даже в говорке. Оно, это русское, национальное, существовало в нём непроизвольно и естественно, как дыхание. Он всегда мне казался русским интеллигентом в его самом чистом выражении. И вместе с тем кое-что в его писательском облике было родственно очарованию француза Экзюпери. И в этом нет ничего противоречивого: то, что по-настоящему национально, то по-настоящему и является общечеловеческим. Своеобразным было отношение Платонова к природе. Инженер по образованию и по практической деятельности, он объединял цивилизацию и природу в одно разумное целое. ...Это и было одно из характерных свойств Платонова как писателя и стилиста в лучших его вещах: он прямо идёт к цели, не позволяет себе уклониться от неё ни на миллиметр. И он идёт до дна, он беспощаден. Это толстовское свойство».
Литературовед Наталья Корниенко: «...художник уникальной биографии. Мелиоратор, работник Наркомата земледелия, инженер “Гипропровода”, инженер-конструктор Наркомата тяжёлой промышленности, изобретатель, учёный-мыслитель. Он оставил нам социально-экономические расчёты хода и результатов индустриализации и коллективизации, технические записки и чертежи, философские и научные трактаты. В этих материалах – контуры первоначальных замыслов, первотолчки, своеобразные прототипы его произведений; это и этапы его биографии, его личностная эволюция. Без неё, без этой фактической биографии, не описать путь Платонова-романиста...».
Писатель и исследователь русской литературы Алексей Варламов: «”Чевенгур” – книга очень загадочная, потому что там обнаруживается удивительный разрыв между теми делами, которые творят герои этого романа. А, в общем, они творят ужасные вещи: злодеяния, убийства, бесчинства, грабежи. И в то же время удивительна та нежность, с которой Платонов их описывает. И вот это вот противоречие между тем, что люди делают – и автор честно описывает то, что они делают, абсолютно не приукрашивая их поступки, отдавая себе отчёт в том, что они делают – и в то же время любовь, которую он проливает на этих людей, создаёт невероятный эффект “Чевенгура”. Мне как раз кажется, что это и есть самая адекватная, самая точная оценка того, что происходило с русским народом в XX веке. Именно Платонов как никто это передал. Не Булгаков, который просто не впустил в себя этот вирус, который отринул, остался в оппозиции, скажем, вот “Собачье сердце”. Представьте себе, как бы Платонов прочитал “Собачье сердце”. Сколько возмущения вызвала у него эта булгаковская насмешка. Это не Алексей Толстой, который всё понимал, но шёл на какие-то компромиссы, на какие-то уступки, где-то просто подличал, был достаточно циничен. У Платонова это искреннее стремление принять в себя большевизм, и даже не стремление, а приятие большевизма, он этот вирус через себя пропустил, этот яд выпил, но именно человек, который это сделал, смог написать те книги, которые наиболее точно ответили на вопрос – что произошло с Россией в XX веке? Вот точный анализ может дать только тот человек, который через это прошёл».
Снова Иосиф Бродский: «Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретённой – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности.
Таков, на мой взгляд, язык прозы Андрея Платонова, о котором с одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или – что точнее – обнаруживает тупиковую философию в самом языке. Если данное высказывание справедливо хотя бы наполовину, этого достаточно, чтобы назвать Платонова выдающимся писателем нашего времени, ибо наличие абсурда в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о человеческой расе в целом.
В наше время не принято рассматривать писателя вне социального контекста, и Платонов был бы самым подходящим объектом для подобного анализа, если бы то, что он проделывает с языком, не выходило далеко за рамки той утопии (строительство социализма в России), свидетелем и летописцем которой он предстает в “Котловане”. “Котлован” – произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время.
Это, однако, отнюдь не значит, что Платонов был врагом данной утопии, режима, коллективизации и проч. Единственно, что можно сказать всерьёз о Платонове в рамках социального контекста, это что он писал на языке данной утопии, на языке своей эпохи; а никакая другая форма бытия не детерминирует сознание так, как это делает язык. Но, в отличие от большинства своих современников – Бабеля, Пильняка, Олеши, Замятина, Булгакова, Зощенко, занимавшихся более или менее стилистическим гурманством, т. е. игравшими с языком каждый в свою игру (что есть, в конце концов, форма эскапизма), – он, Платонов, сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нём такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами.
Разумеется, если заниматься генеалогией платоновского стиля, то неизбежно придётся помянуть житийное “плетение словес”, Лескова с его тенденцией к сказу, Достоевского с его захлебывающимися бюрократизмами. Но в случае с Платоновым речь идёт не о преемственности или традициях русской литературы, но о зависимости писателя от самой синтетической (точнее: не-аналитической) сущности русского языка, обусловившей – зачастую за счёт чисто фонетических аллюзий – возникновение понятий, лишённых какого бы то ни было реального содержания. Если бы Платонов пользовался даже самыми элементарными средствами, то и тогда его “мессэдж” был бы действенным, и ниже я скажу почему. Но главным его орудием была инверсия; он писал на языке совершенно инверсионном; точнее – между понятиями язык и инверсия Платонов поставил знак равенства – версия стала играть всё более и более служебную роль. В этом смысле единственным реальным соседом Платонова по языку я бы назвал Николая Заболоцкого периода “Столбцов”».
Литературный критик Павел Басинский: «Первая книга – сборник стихов "Голубая глубина" – вышла в 1922 году в Краснодаре. В ней чувствовалось сильное влияние символистов, недаром её положительно оценил их вождь Валерий Брюсов. Впрочем, ещё раньше в печати появилась брошюра "Электрификация". Прежде чем стать профессиональным писателем, Андрей Климентов успел принять участие в Гражданской войне машинистом и стрелком ЧОН (части особого назначения), занимался электрификацией и мелиорацией, выдвигая смелые идеи по модернизации советской промышленности и сельского хозяйства. Словом, был самым непосредственным участником всех главных событий страны в 20–30-е годы, а не каким-то кабинетным литератором, выдумывающим свою, фантастическую действительность.
Тем удивительнее, что именно как писатель он был отторгнут советской литературой.
В этой связи валить всю вину на Сталина, который возмутился его повестью "Впрок", опрометчиво опубликованной в журнале "Красная новь" Александром Фадеевым в 1931 году, было бы неправильно. Платонов действительно не вписывался в литературу тех лет. Ни в "пролетарское" её крыло, к которому принадлежал по факту своего происхождения, ни в "попутчики" (Федин, Каверин, Зощенко и другие), ни в "новых крестьян" (Есенин, Клюев, Клычков), ни в "белогвардейцы", одним из которых объявили Булгакова. Он как бы оказался в стороне от всех.
Ему искренне пытался помочь Горький, высоко оценив его первую повесть "Епифанские шлюзы". Но внимательно и добросовестно прочитав рукопись романа "Чевенгур", Горький впал в растерянность. "Человек вы – талантливый, это бесспорно, – пишет он Платонову в сентябре 1929 года, – бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком... Но при всех неоспоримых достоинствах работы вашей я не думаю, что её напечатают, издадут. Этому помешает анархическое ваше умонастроение, видимо свойственное природе вашего "духа".
И это письмо получил человек, возглавлявший отдел электрификации в Губземуправлении, построивший три электростанции, служивший главным инженером-мелиоратором в Воронежской губернии, участник Первого Всесоюзного гидрологического съезда и т. д., то есть человек и гражданин, который реально поднимал экономику огромной страны после военной разрухи.
Какой странный и страшный парадокс...
После бессилия Горького и гнева вождя Платонову практически закрыли путь в советскую литературу навсегда. Он выступал в качестве литературного критика (один из псевдонимов – Человеков), военного корреспондента и даже в 1946 году опубликовал в "Новом мире" гениальный рассказ "Семья Иванова" ("Возвращение"), который стал едва ли не первой ласточкой честной послевоенной прозы. Благодаря дружбе с Шолоховым выпустил в свет переложение сказок народов России "Волшебное кольцо". Но его многочисленные романы и пьесы оставались под спудом».
Собственно Андрей Платонов: «Кто думает, что естественным выходом из страдания является смерть, тот имеет неправильное представление о возможностях человеческого сердца…».
При подготовке публикации использованы материалы ВОУНБ им. М. Горького