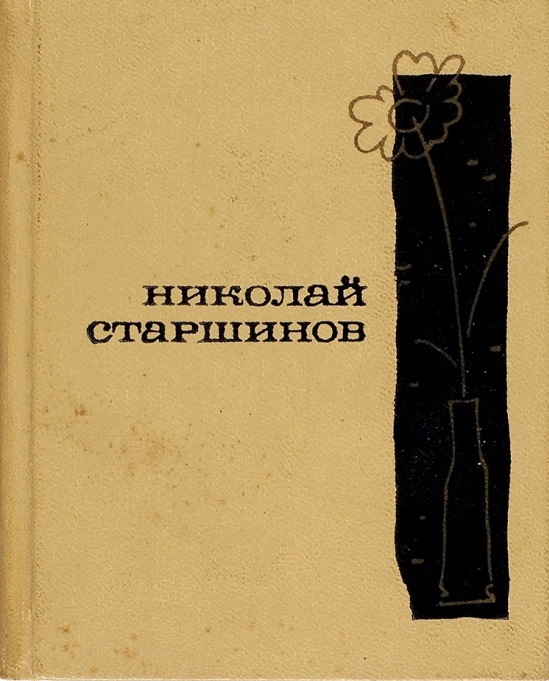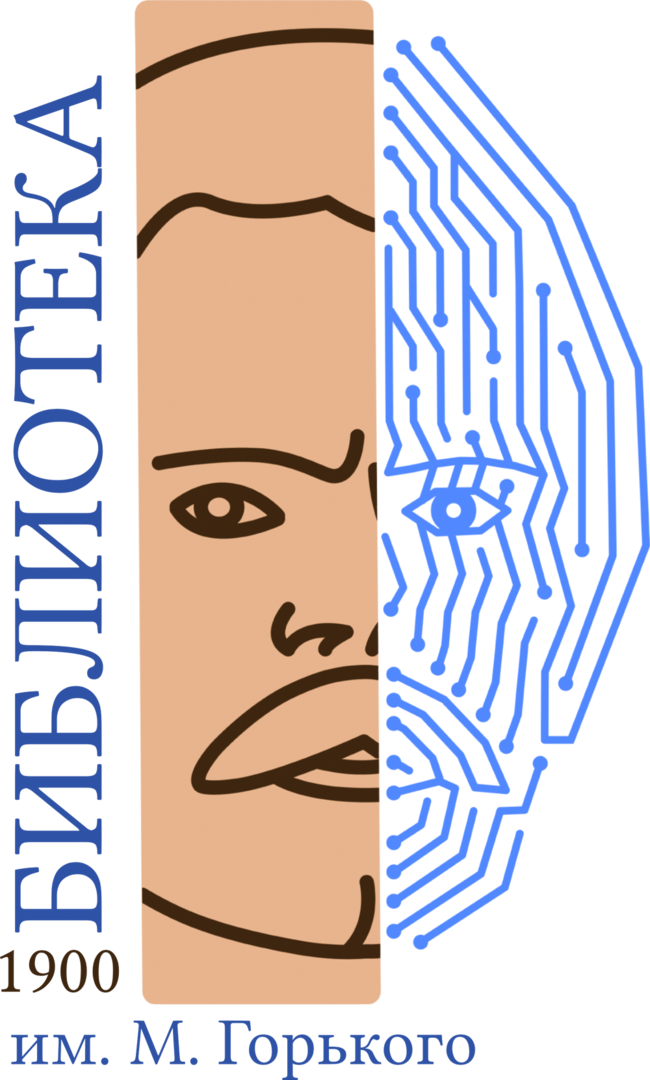«…Заново люблю я всё живое, Всё, в чём свет сияет и тепло»
«Жизнь была и сладкой и солёной,
А порой и горькою была.
Раненый и трижды исцелённый,
Говорю я:
— Жизнь, тебе хвала!
Ты дарила тишиной мгновенной
И бросала в полымя огня.
Убивала чёрною изменой,
Воскрешала верностью меня.
Обращалась с материнской лаской
И преподносила мне урок —
Била в зубы,
Награждала тряской
Глинистых просёлочных дорог.
Я тебя не пробовал навырез,
Как хозяйки пробуют арбуз…
Всё равно я не утихомирюсь,
Пусть и снова трижды ошибусь.
Жизнь моя! Она бывала всякой.
Пела синевой любимых глаз…
И молчала зло перед атакой…
Может, потому и удалась!»
(Николай Старшинов, «Жизнь была и сладкой и солёной»)
…В чем-чем, а в лукавстве Николая Старшинова никогда никто не упрекал. Он не старался быть лучше, чем есть, ни в быту, ни в стихах своих не лгал, и жил, как мог, и, действительно, была его жизнь и соленой и сладкой.
Выходец из многодетной семьи, он сохранил самые лучшие воспоминания о своем детстве. Воевал в Великую отечественную войну и выжил. Писал стихи и закончил Литинститут. Женился по любви и хотя брак распался через 16 лет, оставил в миру дочь от любимой женщины. Не ругался с критиками, хотя те, бывало, и громили его за «посредственность». Занимал, случалось, немаленькие посты, помогал друзьям и коллегам, попавшим под идеологический пресс. Пропадал из Москвы, уезжая на любимую рыбалку. Ездил по стране, со страстью подлинного коллекционера собирая частушки. Пил, бывало, горькую чрез меру. Работал, как вол, и свои 73 года прожил достойным человеком – и солоно, и сладко.
В 2024 году, 6 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Старшинова – советского поэта.
Появившийся на свет в Замоскворечье восьмым ребенком в семье бухгалтера (несмотря на недостаток образования), Николай Старшиной большую часть детства провел в подмосковном селе Рахманове на родине отца.
«Мне и сегодня видится наше село Рахманово, залитое ярким утренним солнцем, наша, четвертая от церкви, изба-пристройка, идущие к заутрене старухи в черных платьях, с ботинками, перекинутыми на шнурках через плечо. Перевалившиеся за палисадники кусты цветущей сирени, огромные лохматые ветлы, усыпанные грачами, галками и воронами. В ушах еще стоит их ярмарочный яростный гомон. Помнятся наши детские игры – бабки, городки, лапта – и мои грибные походы и рыбалка. Я целыми днями пропадал в лесу или на речке Сумери, или на мельничном омуте у Вори, за что и получил от мальчишек прозвище Лесовик. А старые угольницы, где мы лакомились самой сладкой земляникой, куда мы ходили по вечерам собирать ночные фиалки и светлячков!… Конечно, помню я и песни, и частушки, которыми славилось наше Рахманово», - вспоминал позже Н. Старшинов.
…Лапта-лаптой, и рыбалка тоже, но уже в 12 лет Николай начал писать стихи. В общем – обычное дело, кто из юных не грешил подобным?
Из «Автобиографии»: «В нашем старом доме было много хороших старинных книг, хотя ни отец, окончивший лишь три класса, ни мать, с трудом умевшая написать короткое письмо, их почти не читали. … Каждый день после ужина за прибранным столом собиралась вся наша семья. И кто-то из старших братьев или сестра читали нам вслух стихи. Два, а то и три часа. Зато к четырнадцати-пятнадцати годам я очень неплохо знал русскую поэзию. Да и не только русскую. Пушкин, Лермонтов, Крылов, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Никитин, Суриков, А. К. Толстой, Полонский, Апухтин, Бунин, Блок, Есенин, Маяковский и другие поэты с тех пор остались в моей памяти. А ещё Лонгфелло, Беранже, Гейне и даже «Фауст» Гёте».
Подростком Николай Старшинов уже всерьез задумывался о своем будущем, как поэта, посещал литстудию, мечтал о поступлении в Литинститут. Начавшаяся Великая Отечественная война внесла, как говорится, в юношеские планы свои коррективы. Н. Старшинов закончил только 9-й класс, когда пришел его срок и в 1942 году был призван в армию. Он стал курсантом 2-го Ленинградского военного пехотного училища, а в начале 1943 года в звании старшего сержанта оказался на передовой. Воевал на Западном фронте, был помощником командира пулемётного взвода. Но писать стихи не бросал. Первые поэтические публикации Николая Старшинова состоялись во фронтовых газетах.
В августе в боях под Спас-Деменском получил тяжёлое ранение. Осколки мины перебили ему ноги, он выбирался ползком к своим в течении ночи. В госпиталях он пробыл почти год. Врачи сумели сохранить ему ноги, однако часть осколков остались в них – до конца дней Н. Старшинов ходил с ортопедической тростью.
«Война! Твой страшный след
Живёт в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след –
И в книгах, что на полке…
Я сорок с лишним лет
Ношу твои осколки.
Чтоб не забыл вдвойне
Твоих великих тягот,
Они живут во мне
И в гроб со мною лягут.
Война…»
Из армии демобилизовался в 1944 году. С медалью «За оборону Москвы» (позже он получил и другие боевые награды) он вернулся домой и сразу же поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, как мечтал (Правда, учился он долго, с перерывами на лечение все время дававших о себе ран, и окончил институт он только в 1955-ом).
В том же 1944 году Николай Старшинов обратил внимание на регулярно появляющуюся в институтских коридорах красивую молодую женщину, практически девушку – в старенькой гимнастерке, в видавших виды сапогах она независимо проходила мимо. Это была Юлия Друнина – еще недавняя школьница, а теперь фронтовой санинструктор, человек с душой и телом, изломанными войной, прошедший длинные боевые дороги , но не утратившей страсти к творчеству:
«В школьные годы я была, так сказать жрицей чистого искусства. Писала только о любви, преимущественно неземной, о природе, конечно, экзотической, хотя не выезжала никуда дальше дачного Подмосковья. Замки, рыцари, прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыгами — коктейль из Блока, Майна Рида и Есенина. Всё это мирно сосуществовало в этих ужасных виршах. Мы пришли на фронт прямо из детства. Из стихов моих сразу, как ветром, выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, и прекрасных дам».
В декабре 1944 года Юлия Друнина, старшина медицинской службы, вернулась в Москву. Несмотря на то, что шла уже середина учебного года, она сразу же пришла в Литературный институт и стала посещать занятия первого курса. Выгнать инвалида войны, награжденную орденом Красной звезды и медалью «За отвагу» никто не решился…
Юлия Друнина, за которой ухаживали не только «зеленые» однокурсники, но и «поэтические мэтры», стала женой Николая Старшинова. У молодых вскоре родилась дочь.
«…В то время в моих обстоятельствах это было настоящим безумием». Денег, одежды, еды - ничего этого не было; при этом дочка тяжело заболела, а вслед за ней заболел и муж. «Их надо было спасать от смерти и кормить. А как, когда руки мои были связаны? От младенца ни шагу, денег ни копья».
Брак Н. Старшинова и Ю. Друниной продолжался 16 лет. Не беремся и никому не советует оценивать, насколько он был счастливым. Молодые супруги торили свои дороги в творчестве. Юлия Владимировна была до конца дней своих очень привлекательной женщиной… Скажем, что и Старшинов, и Друнина, расставшись, вступили во вторые браки, оказавшиеся, пожалуй, куда более удачными. Но светлую память о матери своей первой дочери Н. Старшинов сохранил на всю жизнь:
«Только вспомню тебя — затоскую,
Одолеет меня непокой…
Где найти мне другую такую?
Да нигде не найти мне такой!
Нету глаз твоих светлых бездонней,
В них лучится сиреневый свет.
И прохладных, и добрых ладоней,
Как твои, не бывало и нет.
Облечу океаны и сушу,
Побываю в раю и в аду,
Но такую высокую душу
Никогда и нигде не найду!».
(Николай Старшинов)
… В 1947 году в журнале «Октябрь» Старшинов опубликовал поэму «Гвардии рядовой». Первая книга стихотворений — «Друзьям» — вышла в 1951 году в издательстве «Молодая гвардия». В 1950-е годы увидели свет поэтические сборники: «В нашем общежитии», «Солдатская юность», «Песня света»; в 1960-е — «Весёлый пессимист», «Проводы», «Иду на свидание» и другие.
Так Николай Старшинов стал профессиональным поэтом.
«Я был когда-то ротным запевалой,
В давным-давно минувшие года…
Вот мы с ученья топаем, бывало,
А с неба хлещет вёдрами вода.
И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется — свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.
А что поделать? Обратишься к другу,
Но он твердит одно: — Не отставай!.. —
И вдруг наш старшина на всю округу
Как гаркнет: — Эй, Старшинов, запевай!
А у меня ни голоса, ни слуха
И нет и не бывало никогда.
Но я упрямо собираюсь с духом,
Пою… А голос слаб мой, вот беда!
Но тишина за мною раскололась
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!
И пусть ещё не скоро до привала,
Но легче нам шагается в строю…
Я был когда-то ротным запевалой,
Да и теперь я изредка пою».
(Николай Старшинов)
В 1955 — 1962 годы Николай Старшинов заведовал отделом поэзии в журнале «Юность», совмещая эту работу с должностью руководителя литературного объединения в МГУ. С 1972 по 1992 годы занимал пост главного редактора альманаха «Поэзия». При нем впервые были напечатаны ранее неопубликованные стихи Марины Цветаевой, Николая Глазкова, Леонида Мартынова, Ярослава Смелякова, Марии Петровых…
К слову, перед тем, как занять должность главного редактора альманаха, Н. Старшинов прошел курс лечения в наркологической клинике – таково было поставленное перед поэтом условие.
«Вроде жизнь наладилась сполна,
Я ступил на ясную дорогу:
Дочка вышла замуж
И жена
Тоже вышла замуж,
Слава богу!
Ой ты, добрый ветер, гой еси,
Молодцу теперь — сплошная воля…
Покачусь по матушке-Руси
Расторопней перекати-поля.
Задохнусь от подступивших чувств,
Осенённый ливнями и громом, —
Нынче каждый придорожный куст
Будет мне служить родимым домом.
До чего же я его люблю,
Ветер, бьющийся за поворотом.
Ну-ка вместе дунем: улю-лю!
И вперёд — по нивам и болотам…»
(Николай Старшинов)
Всю жизнь Н. Старшинов собирал частушки – собранное выходило отдельными книгами.
Кроме того, поэт занимался переводами.
Уже став известным поэтом, Николай Старшинов, немало помогал молодым поэтам. Рекомендовал их книги, печатал стихи в альманахе «Поэзия», которым заведовал много лет, отстаивал при приёме в Союз писателей. В числе таких «опекаемых» - Николай Дмитриев, Виктор Пахомов и уже упомянутый «опальный» из-за полного несоответствия требованиям советской пропаганды и цензуры Николай Глазков.
В последние годы жизни Н. Старшинова вышли его поэтические сборники «Глагол» (1993), «Мои товарищи — солдаты» (1995), «Птицы мои» (1995). Заметным явлением стали литературные мемуары «Лица, лики и личины» (1994). Посмертно вышла мемуарная проза, книга воспоминаний «Что было — то было» (1998).
Литературное наследие Старшинова составляют 43 книги поэзии, прозы и литературной критики.
Ушел из жизни Николай Константинович Старшинов 6 февраля 1998 года – после второго инсульта.
«Я знаю, оно все годы
Работало на износ.
Ведь я сквозь огни и воды,
Сквозь грохот его пронес.
Мы вместе в болотах вязли,
И снайперы били в нас,
И мины рвались… Но разве
Оно подвело хоть раз?
И мерзли, и голодали,
Да нас не смогли сломать…
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!
В работе своей бессменной
Другой его жгло бедой:
Пытали его изменой,
И подлостью, и враждой.
Оно не черствело в злобе,
Не сбила его вражда,
И, кто бы его ни гробил,
Работало хоть куда.
И вместе мы побеждали,
А нас не смогли сломать…
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!
Казалось, все беды — мимо,
Живи себе да живи…
И все же оно ранимо,
А больше всего — в любви.
Но, как друзья по несчастью,
Держались мы заодно.
И все же в ту пору часто
Пошаливало оно.
Мы всякое повидали —
Терпенья не занимать…
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!..»
(Николай Старшинов)